– Да, ничего под этой многовековой грязью не угадать, – сказал негромко старший. – Письмо несомненно старое и, по-видимому, незаурядное.
– Попробуем очистить?
– Не стоит – испортим. Оставим это потомкам. Может, они искуснее нас будут.
– А если то, что сделаем мы, окажется лучше, и они не захотят счищать? – усомнился юноша, вытаскивая из берестяного короба и расставляя на столе глиняные плошечки с красками, раскладывая кисти.
– Да, задача – как узнать, что лучше, когда первое скрыто вторым? Разве что потомки наши будут насквозь видеть, – он засмеялся.
Анне тоже стало смешно, но тут же вспомнилось, няньки рассказывали, жила в Москве в старые годы колдунья, которая через закрытые глаза, чёрным платком повязанные, видела спрятанные в ларчик ключи, кольца, деньги и разную другую мелочь. За эти бесовские способности колдунью сожгли на костре.
Подсох грунт. Металлическим заострённым стержнем старший иконописец стал чертить на нём лик, всё так же ласково, чуть вопросительно поглядывая на Анну. Та, не скрывая любопытства, вся подалась к столу, прижала указательный палец к губам. Юноша тоже пристально, не таясь, посмотрел на неё и принялся красить рисунок. Ложились на доску охра, лазурь, киноварь, вспыхивали радугой.
Анне хотелось посмотреть, что же там выходит у мастеров, но она не решалась из-за матушки встать со своего места. Но вот княгиня сама направилась к столу, Анна – за ней.
– Тут работы ещё непочатый край, – останавливал их иконописец, – ещё лик не прописан как следует, да и одежда. Смотреть ещё нечего.
Но княгиня уже склонилась над иконой, загородила её от Анны широкой спиной:
– Ах, боже мой! Похожа-то как! А это не грех? Останется ли после икона чудотворной?
– Не грех! – твёрдо сказал старший иконописец. Говорил он тихо, усталым голосом, но уверенно, и его очень приятно было Анне слышать.
– В иконе важен не лик, а суть его – образ. Никто из здравствующих иконописцев не видел святых, которых ему писать приходится, и всяк их пишет по-своему. Разве ты, великая княгиня, не заметила, что даже Богоматерь на всех иконах разная? Последнюю я, к примеру, писал с внучки боярина Всеволожского.
– Как знаешь, – сказала Мария Ярославна недовольно, теперь уже потому, что иконописец упомянул её врага, и чуть подвинулась, уступая Анне место.
Красивая, но хмуроватая женщина лет тридцати в наброшенном на голову по самые брови тёмно-вишнёвом покрывале, будто повязанная вдовьим платком, приняла её любопытный взгляд и ответила на него. В её взоре Анна угадала строгость, непреклонность, скорбь и даже осуждение. Знакомое-знакомое и неузнаваемое лицо.
– Не признаёшь, что ли? – повернулась к ней мать, улыбаясь.
– Нет, это не я! Я совсем иная.
– Будешь такой, – сказал иконописец и улыбнулся ласково и грустно.
Красками, взятыми у иконописцев, на старой доске, где некогда был Николай Угодник, Анна писала икону. Изображала Богоматерь – светловолосую юную, почти девочку, с измождённым страхом и ожиданием лицом, с выпроставшимися из лазурного хитона, сложенными на высоком животе, тонкими по-детски руками. Писала с Марьюшки, которая ждала ребёнка и очень боялась родов. Вышло похоже. И обеим очень понравилось. Радостная Анна помчалась показать икону матери.
На сей раз Мария Ярославна обошлась без сомнений. Схватила лежащее у печи полено и кинулась на дочь.
– Дурацкой мазнёй иконы переводить. Прабабушкино подаренье! Негодница! Святотатка![16] Бес в тебя вселился!
Как Анна ни увёртывалась, мать всё-таки пару раз огрела её по тощему заду. Затем опомнилась, отшвырнула полено, запричитала:
– Горе мне с тобой! Никак не угомонишься. Никак в толк не возьмёшь: красить – не женское дело. Тем паче иконы писать.
– Почему? – пробурчала Анна, поглаживая ушибленное место.
– Нечистое женщина существо. Греховное. Нельзя нам в алтарь входить, иконы писать. Во время месячных в церкви бывать. И после родов бабе в церковь можно только тогда, когда священник прочтёт над ней очистительную молитву. А ты брюхатую на святой доске накрасила. Не маленькая ведь, соображать должна.
– В монастырь уйду! – сказала Анна с вызовом. – Марьюшка говорила, инокини сами иконы пишут.
– Я вам покажу монастырь, пустобрёшкам. Обеих велю на конюшне высечь.
– Хоть насмерть забей! – крикнула Анна и совсем тихо, печально добавила: – Жизни мне нет без этого, матынька. Руки сами к угольку и кистям тянутся.
Мать молча прошла к одному из своих сундуков. Вынула едва ли не со дна его небольшой сверток. Развернула. Легко скользнуло, повисло на поднятой крышке узкое полотнище.
– Подойди ближе!
На полотнище шерстью, золотом и жемчугом была вышита во весь рост женщина поразительной красоты. Под ней – надпись: великая княгиня Софья.
– Вот чем можешь руки занимать, если не найдёшь иной, княжеской работы.
Несмотря на слепоту, великий князь Василий Васильевич не сидел в своём тереме сиднем. Раз за разом выезжал во главе многочисленного войска за пределы Московии, прибирал к рукам одно за другим соседние княжества. Согнал со столов князей галицкого, можайского, боровского. Последнего, бывшего друга и родственника, шурина, Василия Ярославовича, даже сославши в Углич, заключил в темницу. На просьбы жены выпустить брата, позволить ему уехать в Литву, куда бежал его сын, не откликался, а, вызнав, что сподвижники Ярославовича намереваются его вызволить, велел казнить их лютой казнью. Злые языки говаривали, что и Шемяка ранее не без вмешательства великого князя умер – не в бою, не в поединке, не на плахе даже – отравлен был и что, узнав о его смерти, великий князь совсем не по-христиански обрадовался.
А ведь присваивал себе соседние уделы Василий не потому, что уж очень о единстве Руси пёкся – о благополучии дома своего, своих сыновей заботился. Счастье, когда у человека есть сын, когда у князя – вдвойне: наследник! А если княжичей пятеро: Иван, Юрий, два Андрея, Борис, – и все в силу входят, все своей доли ждут… Не плошай, князь отец.
Иван возмужал и уже без отца ходил в походы, не отставал от него и Юрий, успел даже побывать у псковитян в наместниках, и другие сыновья князя давно сменили колыбели на сёдла.
Подолгу теперь пустовала мужская половина княжеского терема. Прибавилось хлопот Марии Ярославне, прибавилось волнений и тревог: раньше за одного-двоих тревожилась, а нынче улетел ясный сокол Васенька, троих сыновей забрал, да ещё племянника. Велел не горевать, не печалиться. Легко сказать! А тоска грызёт, тоска покоя не даёт. Для успокоения затеяла Мария Ярославна пелену вышивать для Архангельского собора, по обету. Задумала: в две недели управится – вернутся все живы и здоровы. Чтобы работа быстрее спорилась, чтобы не томиться одной за вышиванием, девок своих, Марью и Анну, позвала и ещё кой-кого из приближённых.
Собрались после обедни в трапезной, уселись у открытых окон с вышивками. Анна села рядом с Марьей и сразу предложила шёпотом:
– Споём?
– Споём! – с готовностью откликнулась та и тут же затянула высоким ломким голосом: – Не вода в города нахлынула…
– Злы татарины понаехали, – шутливо забасила Анна.
– Как меня, молоду, в полон берут, – согласно и ладно пропели обе.
– Ну завыли, словно волки на луну! – оборвала Мария Ярославна, зло откусила шерстяную алую нитку. – Нашли время. Мужики наши кровь проливают. Не дай бог, уже полёг кто-то, а вы, бесстыжие, в песне надрываетесь. Вот не сегодня-завтра съедутся ко двору, тогда… А сейчас почитай, Марьюшка, почитай нам Священное Писание. Помнишь, где намедни остановились?
Марья оставила вышивку, рубашечку вышивала первенцу Иванушке, села за стол, где лежала Библия, быстро нашла нужную страницу, принялась читать по складам, в чтении она не была искусна, как, впрочем, и большинство домочадцев великого князя, а сам он грамоты вообще не знал.
– «При-об-ре-ла ве-ли-ку-ю сла-ву», – читала Марья.
Анна, не слушая, бурчала:
– Как же, попоёшь тогда. – Представляла, какая начнётся гульба на мужской половине – от плясок да крика молодецкого ходуном заходит терем, до девичьих ли песен будет, их только за рукоделием и петь. «Как меня, молоду, в полон берут, во полон берут, полонить хотят», – песня плескалась в ней, рвалась наружу.
– «…состарилась в доме мужа своего», – читала Марья.
«Ну как это матынька не понимает, что песни не только весёлые поются: “Ах ты, батюшка, выкупай меня! Ты давай за меня сто городов…” А вдруг за батюшку отдавать сто городов придётся? И чего ему не сидится на месте? Зачем ему эти земли чужие? Господи, как страшно, как горько ждать! Никаких подарков не надо. Стану княгиней рязанской, ни на что чужое не позарюсь».
– «…слу-жан-ку сво-ю на сво-бо-ду», – бубнила Марья. Женщины вздыхали, может, тоже не слушали, не в первый раз ведь читалась книга «Юдифь», которую любила Мария Ярославна.
«Уж и нянюшки её наизусть знают, а Марья всё, как по дебрям, пробирается», – подумала Анна. «Ах ты, матушка, выкупай меня! Ты давай за меня сто локтей полотна…» – вытесняя мысли, билась, рыдала песня, а руки проворно сновали над полотном: горка вершиной вниз, солнышко, горка вершиной вверх, крест, опять горка, солнышко. «Скука какая: одно и то же, одно и то же который день уже. Хорошо ещё, другой конец ручника мамка вышивает, а то и состариться над этим ручником можно. И чего стараться, всё равно под ноги его на свадьбе постелят. Надо только изловчиться прежде суженого на ручничок наступить». За мыслями Анна и не заметила, как принялась украшать кресты чёрточками – в одну, в другую сторону.
– О, горе моё, бесталанная! – всполошилась вдруг мамка. – Княгиня-матушка Мария Ярославна, погляди, что девка наша умудрила на ширинке свадебной. О горе, горе!
– Ну чего, чего расшумелась! – Анна скомкала свой конец ручника. – Не сама я эти кресты выдумала, на нянюшкином навершнике видела. Матынька, неужто и тебе они не нравятся? Посмотри, так же красивее.

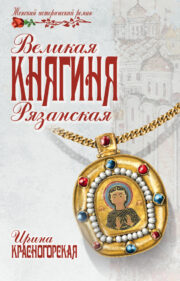
"Великая княгиня Рязанская" отзывы
Отзывы читателей о книге "Великая княгиня Рязанская". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Великая княгиня Рязанская" друзьям в соцсетях.