Чтобы уберечь диковины от порчи, требовалась особая забота. Два раза в месяц содержимое сундуков пересматривалось, перетряхивалось, просушивалось, прокатывалось, чтобы не залежались складки, не обернулись рваниной – дорогие ткани не любят частой носки, но и без движения им лежать вредно.
В пятницу спозаранку в княгининой опочивальне начиналась весёлая, желанная для всех работа. Девки под присмотром ключницы и великой княгини потрошили сундуки, щеголяли, проветривая, в дорогих сарафанах и шубах. Анна примеряла какие-то огромные для неё шушпаны, крутила головой перед зеркалом в сползающей на глаза сороке, а потом наступала очередь маленького сундука, и княгиня всех выпроваживала, и Анну – тоже, запирала двери, сама проверяла его содержимое.
Наконец настала долгожданная для Анны пятница, когда её, одиннадцатилетнюю, допустили до заветного сундука.
Совсем не простым делом оказалось открыть хитрый замок, самой Анне это не удалось. Неловко, от нетерпения, подняла крышку. Под ней – зелёный, как майский луг, ковёр, подарок ордынского хана к её дню рождения.
– Стели на пол, будем на него всё складывать, – сказала Мария Ярославна, а сама села на скамеечку, наблюдала с удовольствием, как Анна вытаскивает ценные вещицы, подолгу держит их, разглядывая. Отмечала, про себя усмехаясь, что дочь передаёт драгоценности совершенно холодными руками – от волнения они у неё стыли. Тщательно осматривала, принимая перстни и браслеты с яхонтами, аметистом, чётки и монисто из солнечного камня балтов[15], янтаря, любимого камня Софьи Витовтовны и совсем не ценимого в Москве, рассказывала:
– Камень этот, твоя бабонька сказывала, – слёзы морской царевны. Очень целебный, снимает усталость, силы придаёт, от зоба излечивает. А на этом браслете бирюза. Она приносит счастье супругам. И бабонька говорила, произрастает из костей тех, кто помер от любви. Наденешь на свадьбу.
Анна потянула назад колдовской браслет, примерила. Он сполз по тонкой поднятой руке до самого локтя. Опустила руку – соскользнул с кисти: велик.
– А подогнать по руке нельзя?
– Успеется, до свадьбы ещё нагуляешь тела. Подтопи-ка печку, Анна, что-то ноги мёрзнут.
Анна опустилась перед топкой, высекла огонь. Занялась, закручиваясь, розовая береста. Быстрый огонь зарумянил Анне лицо. Княгиня залюбовалась дочкой, сказала, не сдержалась:
– Пригожая ты девка, Анна. Годочка через два можно замуж выдавать.
– Может, я не пойду за Василия? – проговорила Анна полувопросительно, складывая бабушкино подаренье в резной ларчик.
– Чего это ты удумала? Обязательно пойдёшь. Москве нужна Рязания. А рязанцы, знаешь ли, горды, непокорны. Силой их взять трудно. Не раз твои пращуры пытались… Уж прадед твой Дмитрий на что воитель был, но и тому не удалось. Пришлось дочь свою в невестки Олегу рязанскому предложить, тем только дружбу и наладили. А без рязанской поддержки, доченька, татар нам не сломить, хоть и поослабли они.
Мария Ярославна замолчала, прикрыла глаза. Задремала? Или сомлела – испугалась Анна, спросила тревожно:
– Матынька, ты что?
– Приоткрой топку, посидим немножко.
Анна опустилась на ковёр у ног матери.
Через слюдяные оконца уже вползали в опочивальню ранние декабрьские сумерки. Будто ладони татарских плясуний, играло в топке пламя. Сыпались на железный лист у печи тёмно-красные угольки. «Такие горячие камни на диадеме, что достались от Софьи Витовтовны Марьюшке, – подумала Мария Ярославна. – Польская королева Ядвига, кажется, их Софье Витовтовне подарила. Ну что бы эту диадему свекровушке да Анне отказать».
– Пиропы эти камушки зовутся, угольки.
– Что?
– Свят-свят, задремала, видно. Много в моей жизни врагов было, – сказала Мария Ярославна, обрывая мысль о не доставшихся дочери камнях, – и порчу насылали, и яду подсыпали, и в дальнем городе в монастыре, как в тюрьме, держали. Смерти моей желали, чтобы отца твоего на другой женить. Да… Натерпелась я… Ой, моль, Анна! Лови! Никак в сундуке завелась?
Княгиня вскочила, согнулась над сундуком, опустила в него руки, как в колодец, по самые плечи.
– Нет, вроде нету.
Анна бегала по горнице, хлопала ладошами, потом сделала вид, что поймала.
– Всё! Что дальше-то? Ну, извести тебя хотели…
– Да-да. И я, грешница, как в силу вошла, должницей не осталась. Но враги все эти мелкие были. Самые же лютые – татары. Их перевести всю жизнь мечтала. Думала, что муж их одолеет, а он в междоусобице погряз. Теперь на вас, на детей моих, вся надежда. Боже, как я их ненавижу! – воскликнула Мария Ярославна и стукнула кулаком по крышке сундука. – И тебе, дочка, ненависть завещаю.
Анну поразило материнское неистовство. Сама она с детства привыкла относиться к татарам с брезгливой неприязнью, как к нищим или убогим. Считала их существами низшими и дивилась, что взрослые подчиняются им, боятся их, а няньки пугают ими детей.
Ненависть ещё не успела вызреть у Анны. Только в год её рождения подступали к стенам города беспощадные враги, воины царевича Мазовши, а так относительно спокойным выдалось время её детства и отрочества. Мирные татары ездили и бродили по улицам Москвы, захаживали на княжеское подворье, сиживали за праздничным столом, как гости. Перебежали в Москву из Казанского ханства испросить у великого князя покровительства царевичи Касим и Якуб, сыновья хана Улу-Мухаммеда, некогда пленившего князя. И князь принял их на службу. Касим помогал ему бороться с Шемякой и с золотоордынским Сеид-Ахметом. За эту помощь Касим получил во владение землю на окраине Московского княжества с Городцом-Мещерским. И стал городец зваться Касимов.
Те страшные времена, когда нападения татар можно было ждать со дня на день, отошли, но ведь и не избылись совсем.
Ненавижу – легко сказать, а как почувствовать? Анна молчала.
– Копим добро, копим, – сказала Мария Ярославна, стоя перед сундуком на коленях и перебирая в нём что-то, – а всё может в одночасье сгинуть. Не раз уж так бывало, не с нами, так с другими. Дожить бы только до того светлого дня, когда дети мои стряхнут эту нечисть с русской земли. Не передрались бы только братцы. Ох, горячи и немирны. Юрий поласковей всех, но не он соправитель, не он наследник… Бабонька всё сокрушалась, что не он. Больше всех его любила. А ты Ивана больше любишь.
– Мне, матынька, все братцы милы.
– Не юли. Это тебя, сестрицу долгожданную, все они любят, а ты, лисичка, того, кто богаче одарит.
– Ну, матынька! – Анна обняла княгиню сзади за полные плечи, расцеловала запрокинувшееся навстречу её губам лицо. – Матынька! Не за подарки тебя люблю. Ты не притомилась ещё?
– До обеда управимся, – сказала довольная лаской княгиня. – А ты с Иваном дружи. Он надёжный. Не предаст. Вот он как суженого твоего к рукам прибрал, будто шёлковый стал парнишка. С ним-то часто ли видишься?
– Только за трапезой, ты же знаешь. Он всё с Иваном: на учении, на охоте, а то на лошадях гоняют.
– Ничего, не с девкой какой время проводит, не с посторонним, это удача, нам, Аннушка, выпала, что Василий осиротел, прости господи, меня, грешную. Жаль только крови в вас много общей, и московской, и литовской. По московской – вы троюродные, а по литовской… надо бы заняться сосчитать: бабка твоя Софья была двоюродной племянницей прабабки Василия Евфросиньи. Ну, даст бог, обойдётся.
– Что обойдётся? – не поняла Анна.
Мария Ярославна вместо ответа спросила строго:
– А ты в седле теперь хорошо держишься или всё так же квашня-квашней?
– Квашня, – смущённо хохотнула Анна: не в первый раз её мать об этом спрашивала, всякий раз после её ответа мамку песочили, что мало с ней занимается – ездит княжна плохо, еле на воде держится, на верёвке кулём висит. Теперь Анна боялась, что мать и про верёвку спросит, но она спросила о другом:
– Открыла ли мамка тебе тайны женские?
– Открыла, – пролепетала Анна, зарываясь в материн сарафан лицом.
– Ну-ну, уронишь! – сказала княгиня, поднимаясь с колен. – Ишь, заалела маковым цветом. Лучше в девках всё узнать, чем в подоле принести. Давай-ка назад всё складывать, – она принялась сноровисто для своего пышного тела собирать раскиданные по ковру вещи. – А мужу никогда ни в чём не перечь. На ласку не скупись. Уступай. Выслушивай. Поддакивай. Похваливай. – Мария Ярославна засмеялась. – Мужики похвалу любят. Пожалуй, даже больше ласки. Я уж на своём веку так юлила, так ластилась – вспоминать противно. Зато и тихо в семье, мирно.
– А вот это надо дать иконописцам обновить, – сказала Марья Ярославна, когда всё убрали в сундук, и Анна самостоятельно заперла его мудрёный замок.
В развёрнутой холстине лежала тёмная-тёмная старинная икона. В оконце затейливой серебряной ризы едва угадывалось женское большеглазое лицо, отчётливо лишь виднелся тонкий палец у крохотных сомкнутых губ.
– Святая Анна. Твоя покровительница. Икона Чудотворная. Про неё тебе не раз рассказывали. Грех, конечно, Чудотворную в сундуке держать. Но такую разве на люди выставишь? Переписать надо. Тоже твоё приданое.
Иконописцев пригласили в княжеские хоромы. Мария Ярославна не решилась передать им икону: опасалась, что подменят чудотворную доску простой, потому и призвала их к себе, пусть красят на глазах.
Пришли двое: немолодой, с длинными, по плечи, седыми, будто серебряными волосами и такой же серебряной бородкой, и кудрявый русоволосый юноша, с тёмными чёрточками усов над тонкими губами. Оба невысокие, щуплые. У обоих худые, очень похожие, прекрасные лица, серые с мягким прищуром глаза, маленькие и узкие, как у девушки, кисти рук. Не спеша расположились за столом у окна.
Анна устроилась рядом с матерью на скамейке чуть поодаль, во все глаза смотрела на чудесных пришельцев. Те тоже поглядывали на неё с доброжелательным вниманием. Потом занялись иконой. Ловко и бережно сняли оклад – обнажилась тёмная, изъеденная по торцам доска. Чуть светлели нимб над ушедшим во мрак женским лицом и часть руки с удлинённым указательным пальцем.

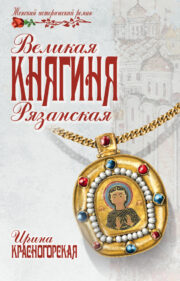
"Великая княгиня Рязанская" отзывы
Отзывы читателей о книге "Великая княгиня Рязанская". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Великая княгиня Рязанская" друзьям в соцсетях.