– А и в самом деле, хороши у тебя пряники, сестрица. Надо бы узор переснять. – Мария Ярославна отломила у одного краюшек, спросила, смакуя: – На меду или на патоке?
– Старинные доски, бабонькино благословение, – объясняла княгиня рязанская, польщённая. – Я подарю тебе – доски.
– Сама с чем останешься? – засовестилась Мария Ярославна.
– Да у меня их много, и в огне не горят. Вот ведь большой пожар был, с полгода тому. Вся худоба сгорела, все шабалы, все половички да утиральнички…
– А как же те, что во дворе, сказывала, висят? Ну что от блох выжариваются? – не утерпела, вмешалась Анна, сидевшая теперь по левую руку от тётки.
Мария Ярославна улыбнулась выжидающе, а княгиня рязанская, густо заалев румянцем, крикнула:
– Эй, Митька, доски пряничные нам тащи! С полдюжины, что поцелее.
– У нас так же было, – начала Мария Ярославна, погрозив Анне пальцем – молчи, княгини да боярыни за столом примолкли, прислушиваясь. – Когда Москву затрясло, терем наш – в щепки. Утварь вся побилась, изломалась, а махоточка[8] глиняная, от старости щербатая, цела-целёхонька. С нею и к свекровушке двинулись на Ваганьково, у неё хоромы уцелели, а посуда вся – в черепки. Махоточка эта и сгодилась.
– Вот страху-те, наверное, натерпелись. Мы и то думали, конец света пришёл, когда у нас тут стены зашатались, да и подсвечник по столешнице пополз… А так ведь всё обошлось.
– На Скоморошей горе, – напомнила боярыня, что сидела подле Анны, – у скомороха Петьки Смородины хлевушек только и развалило. Скотину, сказывали, придавило.
– Ах, да какая у скомороха скотина! Козы, чай, одни, – Мария Ярославна слизнула с пальцев сметану.
Митька внёс оберемок[9] досок.
– Куда их?
– Куда! Не на стол же! Клади на пол.
Гостьи оторвались от перепелов и карасей, вслед за великими княгинями вышли из-за стола полюбоваться досками. Восхищались громко, преувеличенно, чтобы польстить своей княгине, рязанской, да и чтобы московская гордячка не подумала, будто ей рухлядь какую всучивают:
– Хороши, ах, диво, как хороши! Ни на одной узор не повторяется. И письмена по кайме. Мастера-то у нас – грамотеи.
Анна к столу не вернулась. Осталась разбирать доски. Примостилась рядом с ней одна блохастая собака, потом – другая. Анна показывала им доски, подносила прямо к тёмным влажным носам.
– Смотрите, смотрите, какой многоглавый город. Какие окошечки у домов затейливые, решётчатые. А на крыше островерхой – петух! Видите?
Собаки моргали коричневыми добрыми глазами и смущённо отворачивались.
За столом продолжалась трапеза. Тянулась неспешная застольная беседа. Князь Иван едва сидел, но этого никто не замечал. Хмельные мужчины хулили новгородцев, литовцев; забывшись, пару раз ругнули ордынцев, татары прикинулись, что ничего не слышали; говорили об охоте на вепря: налились овсы, пора на деревьях близ них мостить повети, чтобы караулить зверя. Женщины обсуждали средства против моровой язвы: от синих болячек, коль они на теле объявятся, спасения нет – через три дня хворый умирает, от красных можно излечиться, если днём и ночью к ним красные же тряпицы прикладывать, мокрые, конечно.
– А старшенькому моему икона помогла Чудотворная, – рассказывала княгиня московская громко, стараясь перекрыть гул мужских голосов. – Тряпицы неделю прикладывала, извелась вся – не легчает. Спасибо старушке пришлой, надоумила на огороде в мусорной куче покопать. Покопали – святая Анна в холстину конопляную обёрнута…
Суженый сыпал в малиновый кисель себе, отцу, дяде ложку за ложкой соль, и никто не замечал. Даже то, что он столкнул солонку на пол, углядели только собаки.
Анна спала под столом, обняв теремную доску, и снился ей многоярусный белокаменный город на берегу незнакомой реки.
Осень покатила за Покров. Уже отвьюжили на мостовых пёстрые хрусткие листья, бурыми сугробами притулились к заборам и завалинам. Вениками-голиками темнели деревья, и только лиственницы тускло светились, как догорающие лучины. Но всё ещё было сухо и солнечно. И пряди летучей паутины всё ещё норовили сесть на лицо. А под вечер совсем по-летнему перед теремом столбилась, толкалась мошкара, невесть откуда влетали в покои поутихшие было комары, опять надоедливо зудели, не давали Анне заснуть.
Спозаранку же, по-летнему, шумел, будил её торг.
Он раскинулся напротив княжеских хором за Кремлёвской стеной на тесной от лабазов, лавчонок, прилавков и клетей Красной площади, которую в народе звали Пожар – так часто она занималась огнём.
На Пожар, приехав из Переяславля, каждое утро Анна тащила мамку. Протискивались в пряничный ряд, и Анна всякий раз изводила мамку, долго выбирая пряник, да так зачастую и не купив его. Торговцы, угадав в ней княжну, иногда дарили один-другой. И Анна сама несла с торга сласть, пачкая ею рукава и полы шушпана[10].
Бывала она и в рядах, где продавали утварь, дивилась на расписные колыбельки, прялки, шкафчики и салазки. Близко подходила к ним, водила пальцем по затейливым узорам. Утвари, конечно, никто ей не дарил, и купить её Анна не могла. Печатные пряники, на пахучих иноземных приправах замешанные, ценились дорого, хоть и недолговечны были, а уж прялки да шкафчики делались на века – разве девчонке, даже княжеской, к ним подступиться.
Узнав про Аннин интерес, старшие, денежные, братья Иван и Юрий стали приносить ей для забавы пряничные доски. Их немало скопилось к осени в печурах девичьей горницы. Мамки и няньки смеялись:
– Зимой на растопку пойдут. Ишь, поленница в избе выстроилась.
Анна злилась, не понимала шуток и, придя с торга, перебирала, пересчитывала своё богатство, вновь рассматривала разные картинки, вспоминала, кто из братьев какую доску принёс, что сказал.
Иван дарил всё больше доски с видами каких-то сказочных городов и при этом приговаривал одно и то же:
– Любуйся, сестричка, когда-нибудь такой же у себя в Рязани построишь.
Юрий предпочитал изображения цветов, трав, диковинных птицедев и говорил о девах, поясняя непонятное:
– Это такие вольные, неземные существа, Анютка.
– Ангелы?
– Нет, не ангелы, но им также доступны глуби небесные и бездна премудрости. Сосредоточились в них девичья чистота и тайна.
– А что это бездна премудрости? – спрашивала Анна, девичья чистота её не занимала.
– Это, как тебе сказать? Вырастешь – поймёшь.
Птицы-девы, которым было доступно нечто непонятное, Анне не нравились. Их деревянные лики были однообразно некрасивы и ничего не выражали. Надумала сама вырезать таинственную птицу с ликом великой княгини Марьи, Марьюшки то есть, жены Ивана.
Анна знала и любила её уже года три. Десятилетней Марья вошла в их семью и после свадьбы («До времени», – как сказала бабушка Софья Витовтовна) поселилась в Анниной горнице. Анна была рада этому. А Марья сперва жить с ней не хотела и спать отказывалась на одной лежанке.
– Держаться всё время вместе будете, чтобы не изурочили[11] порознь. Мамки Аннины опекать вас будут. У Марьи в Москве много врагов, – наставляла Софья Витовтовна.
– Какие у меня враги? – изумилась Марья. – Ведь меня здесь никто не знает.
Софья Витовтовна больше ничего не стала объяснять, сама раздела Марью и уложила рядом с Анной.
Вместе они спали, отгородившись подушкой, – Анна во сне брыкалась. Вместе хворали и дружно тогда мастерили куколок, чтобы свою хворь им передать. На щепках угольком рисовали лики, шерстяными нитками обматывали туловища. Из ниток же плели косы и головные уборы. Хворь проходила, а невестка с золовкой всё куколок цветной шерстью обряжали да на подоконниках выстраивали.
С лета Марья жила на половине великого князя Ивана, вернее ночевала, дни она, как и прежде, проводила у Анны в её просторной, всегда полной прислуги и каких-нибудь пришлых горнице.
И в то утро, когда Анна принялась вырезать доску, у окон её светлицы пять или шесть девок вышивали рушники и рубахи, нянька катала на сундуке выстиранное бельё, какая-то странница дремала на Анниной лежанке, и мамка искала у неё в голове, в углу две служанки драли перо.
Бухнула дверь. Застучали в сенях каблучки, но никто из девок и баб не шелохнулся: знали Марьину стремительную поступь.
– Анка! – крикнула Марья с порога. – Суженого привезли!
Анна подняла голову – нож чиркнул по пальцу. Кровь тут же залила доску, закапала на пол.
– Ахти! – взвизгнула нянька.
– Бедная моя головушка! – вскочила с лежанки мамка. – Не уберегла.
Анна зажала палец и вопила благим матом. Бабы заметались по горнице – искали тряпицу. Вскинулась на лежанке странница, часто-часто крестилась. Марья с перепугу бросилась в сени:
– Помогите! Помогите! – Опомнилась, вернулась, рванула подол нижней юбки – не поддался новый холст. Полоснула по нему злосчастным ножом, оторвала лоскут, перевязала палец.
– У собачки боли, у кошечки боли, у Аннушки пройди.
Повязка набухала кровью.
– Знахарку надо – кровь остановить.
– Ой, боюсь, матушка узнает. Она мне не велела доски резать, – захныкала Анна. – Не женское дело, сказала, и тебе, мамка, велела за мной следить.
– Уследишь за тобой, как же! Сегодня же все доски пожгу. А заживёт палец – за вышиванье сядешь. А ну подними его. Остановилась, кажется.
– Кровь – к родне, – сказала странница и спросила с любопытством: – Кого там привезли, Марьюшка?
– Какая я тебе Марьюшка, – неожиданно для всех разозлилась всегда покладистая Марья. – Великая княгиня я, Мария Борисовна. И как смеешь ты, пришлая, на постели княжны валяться! Обнаглели! Понабились в горницу, будто на дворе мороз. А ну – все на волю! Дух от вас тяжёлый.
Служанки послушно направились к двери. Поднялась странница, неспешно принялась оправлять постель.
– А ты что мешкаешь? Без тебя приберут.
Странница подняла котомку и у двери, обернувшись, зло поглядела на Марью.

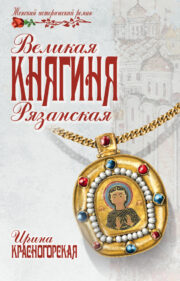
"Великая княгиня Рязанская" отзывы
Отзывы читателей о книге "Великая княгиня Рязанская". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Великая княгиня Рязанская" друзьям в соцсетях.