И тут вступил отец, как басовая партия в комической увертюре. Он вспомнил свое нищее детство, когда на завтрак ничего не полагалось, кроме черного хлеба и маслин. Затем распространился об утрате исконных народных традиций; о том, что все наши беды — от обезьяничанья — мол если у французов мужчины и женщины сидят вместе за столом и пьют кофе, то и мы должны!
— А если в Париже выдумают ходить без штанов, то и мы бегом туда же? — набычившись, он посмотрел на нас. Его красная феска напоминала петушиный гребень.
Можно считать, что на этой мажорной ноте утренний концерт завершился. Я ни слова больше не произнесла. Отец, мама и Джемиль обменялись еще несколькими сумбурными репликами, но это уже было так — затишье после бури.
После завтрака мне удалось ускользнуть от разговора с матерью. В спальне я уселась перед трельяжем и медленно водила серебряной щеткой по своим темным распущенным волосам.
Я думала о том, что все было бы гораздо проще, если бы все мы решились прямо высказать, почему мы недовольны друг другом. Тогда вдруг выяснилось бы, что никаких сложностей, никаких психологических тонкостей — нет. Все просто. Но мы никогда ничего подобного не сделаем. Нам легче обманывать самих себя, убеждать себя в том, что мы друг дружку ненавидим, предъявлять абсурдные требования. Правда нас пугает. Почему? Быть может, потому что в ее наготе выявится абсурдность и бессмысленность самой сути нашего существования?
Но разве могут мои родители признать, что прожили свою жизнь как-то не так? Тогда придется поставить вопрос: а как же следовало ее прожить? Но они не знают ответа. И никто не знает.
А Джемиль? Допустим, он честно признается самому себе, что ему женитьба на мне нужна была только для того, чтобы мой отец оказал поддержку его коммерческим начинаниям. Но он не может думать о самом себе так дурно. И для чего нужна ему эта контора? Какого жизненного идеала он стремится достичь? Я не знаю. Формально можно предположить, что ему хочется безбедной обеспеченной жизни, уважения окружающих. Мне все эти его устремления кажутся мелкими. Я презираю его. А он презирает меня, я для него — никчемное ничтожество. Если бы у него была контора и не было бы меня в придачу, наверное, он был бы по-своему счастлив. Но он даже не хочет прямо сформулировать в своем сознании это свое желание. Зачем ему дразнить себя? Ведь избавиться от меня все равно невозможно. И вот он утешает себя мелкими придирками. Возможно, при этом он искренне верит, что все это — для моего же блага.
Итак, ни родители, ни Джемиль не могут говорить правду.
Остаюсь я. Почему я живу этой лживой жизнью? Чего я хочу? Что я могу? Уйти от мужа, оставить родителей и сделаться домашней приходящей учительницей французского языка? Нет, я не решусь, у меня не будет рекомендации и будет скандальная репутация. Я не найду работы. Я изнежила себя и привыкла бездельничать.
7
В голубом шелковом платье, запахнув белый тонкий шифоновый чаршаф, иду по набережной. Волосы я сегодня заколола высоко. Чуть помахиваю синим бархатным ридикюлем с золотой застежкой.
Когда идешь вот так, вдыхая нежный странный аромат морской свежести, начинает казаться, что в твоей жизни еще все впереди. Конечно, на самом деле ничего впереди нет, кроме сурового взгляда отца, попреков мамы и Джемиля и моего отчаянного желания отстоять свое право на эти прогулки в одиночестве.
Но лучше я не буду об этом думать. Наверное, я все-таки красива. Я чувствую, что на меня смотрят. Молодые женщины смотрят с некоторой подозрительностью. Порою мне кажется, они видят во мне что-то вроде соперницы. Я знаю, они жены состоятельных людей; у них, конечно, есть любовники, я догадываюсь. Да, эти молодые женщины имеют право относиться ко мне настороженно. Я одета так же элегантно, как они. И незачем лгать самой себе, я красивее них. Но я ничего не понимаю в их жизни. А они, в свою очередь, не понимают, что скрывается за этим моим непониманием — наивность, глупость, утонченное кокетство? Кое-кого я знаю. Например Сабире-ханым. Ибрагим-бей, ее муж, получил богатое наследство, которое и проматывает теперь вдвоем с женой. Это говорила мама. Но я всегда обрываю такие разговоры, не люблю сплетен. Хотя… может быть, это даже приятно — посиживать с подругами вокруг изящного мангала-жаровни, попивать ароматный чай и немножко сплетничать… Но у меня нет подруг. Я помню, когда я была маленькой девочкой, Сабире приходила к нам в гости вместе со своими родителями. Помню, она тогда стала мне рассказывать о каком-то соседском мальчике, с которым она будто бы целовалась, пока они играли в прятки. Нам было лет по семь. Мне показалось, что целоваться это ужасно, а все время думать о мальчиках скучно.
Фасих-бей в белом костюме вежливо здоровается со мной. Я наклоняю голову. В сущности, он симпатичный, блондин, усики, довольно стройный. Наверное, донжуан. Намного моложе моего мужа, холеный, не знавший нужды. Вдруг меня охватывает непрошенная жалость к Джемилю. У него была трудная жизнь, полная лишений. Для него брак со мной — большая удача. И, может быть, он все же любит меня? Может быть у нас еще наладятся добрые отношения? Мне вдруг захотелось поверить в это.
Конечно, я могла бы стать такой как все. Могла бы завести интрижку. Хотя бы с тем же Фасих-беем. Его взгляд выражает восхищение. И какую-то немножко нарочитую почтительность. Он как бы говорит мне этим взглядом: «Только прикажи, только согласись, я готов исполнить любое твое желание». Но я чувствую, что он пошлый и неинтересный человек. Во мне его занимают только стройная фигурка, пышные волосы, большие темные глаза. Однажды в Кадыкее, на площади у моря, он подошел ко мне. Я шла под руку с Джемилем. Мне было стыдно за его грубоватое крестьянское лицо, изборожденное ранними морщинами, за его мешковатый костюм. Фасих-бей поздоровался с нами и завел разговор о театре. Я горячо откликнулась, с жаром принялась рассуждать о маленьких пьесах Метерлинка, которые недавно прочла. Если бы их можно было увидеть на нашей сцене! Я заговорила о том, что надо непременно перевести пьесы Метерлинка на турецкий язык. У меня даже мелькнула мысль — а если я это сделаю, а Фасих-бей поможет опубликовать мои переводы или передаст их в театр, ведь у него, кажется, так много знакомств. И вдруг я заметила, что Фасих-бей смотрит на меня с некоторым изумлением. Я устыдилась своей горячности и замолчала. Я поняла, что его удивил мой искренний интерес к литературе, к театру. Ведь для него самого все эти умные разговоры — не более, чем предлог для начала любовной связи. Возможно, он думает, что я чуточку не в своем уме, экзальтированная дурочка. Во всяком случае, он почтительно откланялся, а мне, как водится, досталось от Джемиля за то, что я так увлеченно беседовала с мужчиной.
Джемиль, Джемиль, Джемиль… Про себя повторяю его имя, в такт своим легким (я знаю, что легким) шагам. Надела светлые лакированные туфельки на высоких каблуках. Быть красивой и элегантной так приятно! Повторяю про себя имя мужа и улыбаюсь, как будто бы поддразниваю всех этих одетых в светлые летние костюмы молодых мужчин, которые прогуливаются по набережной.
Мужчины смотрят на меня. Женщины завидуют. Дурочки! Мне ведь никто из ваших кавалеров не нужен.
Иногда (или нет, даже довольно часто) я воображаю себе молодого человека, умного, тонко чувствующего, он влюбляется в меня… Дальше… Мне жаль Джемиля… Нет, совершенно ребяческие мечты. Я инфантильна.
Все-таки превратиться из почти восемнадцатилетней старой девы в молодую женщину — не так уж неприятно. Я уже полгода замужем и через полгода мне исполнится девятнадцать. Из французских романов я знаю, что это — возраст любви. Но никакой любви на свете нет! Есть только Джемиль. Я озорно улыбаюсь и ускоряю шаг.
Те, что никогда не бывали на море, полагают, что все это очаровательно — сине-зеленые волны, лодки, песок и разноцветные камешки, голубое небо. И чайки вдали. И все это и вправду было бы очаровательно, если бы чайки всегда держались подальше от людей. Но они имеют обыкновение свободно летать над, набережной.
Прощайте, приятная прогулка, высокая прическа, и светлый шифоновый чаршаф! Чайка нагадила мне прямо на голову. Браво, Наджие! И ты еще примеряешься к роли трагической или романтической героини? А на самом деле ты просто комический персонаж. Да, да, да!
Я растерялась. Что делать? Стремглав бежать домой в таком виде? Хороша я буду, нечего сказать. Взять экипаж? Я беспомощно оглянулась и почувствовала, как слезы навернулись на глаза. Вот она, моя судьба! Мне плохо, но ведь это смешно. Вот он, мой смешной брак с Джемилем. Мне плохо в этом замужестве, но ведь это же смешно!
Какой-то человек протягивает мне носовой платок. Я так и застыла, со слезами на глазах, с носовым платком в руке. Человек отбегает, что-то кричит, окликает кого-то. Подъезжает экипаж. Человек помогает мне сесть. Что-то говорит кучеру. Экипаж трогается.
Только оставшись одна в экипаже, я наконец очнулась и воспользовалась любезно предложенным мне носовым платком. Должно быть, я ужасно выгляжу. Куда меня везет этот кучер? Впрочем, я уже вижу: домой. Мне снова становится смешно — неужели я полагала, что меня похитят… Но кто был тот незнакомец? Он расплатился с кучером. Странно — я запомнила, что делал этот человек, но не запомнила, как он выглядел, что говорил. Молодой или пожилой? Не помню. Чужой носовой платок. Еще и из-за такой мелочи Джемиль устроит мне скандал. Все равно не миновать скандала. Все все видели. Наверняка насплетничают маме и Джемилю. На всякий случай потихоньку выбрасываю носовой платок.
8
Так и есть! Небольшой предобеденный скандал! Ну и пусть. Сама не понимаю, почему это мной овладело какое-то бесшабашное настроение. Как будто должно произойти что-то интересное! Но чего же я жду? Чего я могу ждать? Что такого интересного может произойти? Да ничего. Разве что чайка нагадит на новую прическу, незнакомец предложит носовой платок, а наемный экипаж отвезет домой.

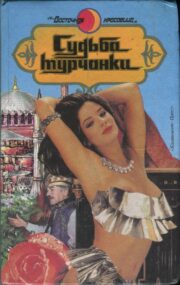
"Врач-армянин" отзывы
Отзывы читателей о книге "Врач-армянин". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Врач-армянин" друзьям в соцсетях.