— Да, — заметил я, стыдясь собственных банальностей. — Вы, должно быть, представляли себе феску, чалму, ятаган и шаровары.
Тон мой явно отдавал меланхолией. Юноша смутился и наклонил голову. Вероятно, что-то подобное он себе и представлял.
Этот молодой человек ничего обо мне не знал. И вообще, ему нужен был не я, но турок. То есть, желательно интеллигентный турок. И когда он меня увидел, он…
Тут я все понял. Я понял, что когда он меня увидел, он счел меня слишком интеллигентным для турка; он не мог поверить в то, что встречаются столь интеллигентные турки. Должно быть, мой взгляд ясно выразил мое понимание и меланхолическую укоризну. Молодой человек еще более смутился. Но я вовсе не собирался предъявлять чрезмерные требования к этому мальчику, учившемуся в школе на окраине Парижа, где ему в основном внушали, что Франция — великая страна. Я сказал Жану, как меня зовут, и скромно отметил, что я действительно интеллигентный турок, и даже более того, — я писатель, турецкий писатель.
Он продолжил свои объяснения. Дело в том, что его жена Мадлен… то есть, не она сама, но ее покойная мать, мадам Надин…
Мне стало хорошо. Я почувствовал, что со мной произошло приключение. И это было приятное приключение и оно, кажется, имело отношение к моему литературному труду.
3
Дом номер семь выглядел вполне прилично. По лестнице мы поднялись на третий этаж. Не так уж высоко, я не успел запыхаться, и тоже выглядел прилично — как парижский многоквартирный дом с окраины. Квартирка оказалась однокомнатная, очень опрятная, но скудость военного времени все же ощущалась, как-то витала в воздухе.
Когда я увидел молоденькую хозяйку, жену Жана, и спящего в колыбели малыша, мне стало не по себе. Такие маленькие дети всегда трогают меня до слез своим очарованием.
Мадлен, должно быть, приходилась ровесницей своему молодому супругу. Юная парижанка с городской окраины — скромное домашнее платьице, не подкрашенные свежие губки. Порою она мило встряхивала темными, коротко стриженными волосами.
Мне сразу же захотелось предложить им денег или чего-нибудь из еды. Но у меня ничего не было. Такое внезапное желание разыгрывать роль святочного ангела перед совершенно посторонними молодыми людьми может показаться сентиментальным. Но это желание было совершенно искренним. Что же касается сентиментальности и романтичности, то я знаю, мне это свойственно и отнюдь не представляется постыдным.
Мы сели за стол. Пустой, покрытый пестрой клеенкой, стол казался чрезмерно большим для этой небольшой комнаты. Кофе мне не предложили. Но я понял, что это не было проявлением негостеприимства, просто у них не было кофе. Мне снова сделалось грустно, неловко; захотелось сделать им какой-нибудь подарок. Тотчас вспомнились времена, когда у меня были деньги. Как жаль, что сейчас у меня ничего нет.
Но как я обрадовался, что все-таки могу доставить им удовольствие, да и самому мне было интересно.
Они и вправду обратились ко мне с очень необычной просьбой.
Молодая женщина объяснила мне, что ее покойная мать оставила дневник, написанный частью по-французски, частью — по-турецки. Разумеется, я выразил удивление. Но когда я узнал некоторые обстоятельства жизни мадам Надин (или Наджие-ханым), я не то чтобы перестал удивляться, но испытал много приятных ощущений.
Пока мы беседовали, проснулся двухлетний Даниэль. Молодая мать, что-то ласково приговаривая, подхватила ребенка на руки. Теперь она поддерживала разговор, то и дело прерывая себя обращениями к малышу, покачивала его, улыбалась его улыбкам. Мальчик посмотрел на меня широко раскрытыми глазками и залепетал какие-то слова на своем детском языке. Я смотрел на его нежное округлое личико, на эти большие внимательные глаза, и, как и многим одиноким старикам, мне приходила в голову мысль о том, что отсутствие жен, детей и любовниц — отнюдь не самое страшное в этой жизни; но когда не имеешь внуков — это по-настоящему грустно.
4
Что касается французской части дневника мадам Надин, то Мадлен считала, что эти записи представляют ценность лишь для ее семьи. Но вот записи, сделанные по-турецки, молодая женщина не могла прочесть и потому полагала, что они могут содержать какие-нибудь интересные сведения, пригодные для опубликования.
Меня тронула своеобразная наивность этой маленькой практичной парижской домохозяйки. Впрочем, я давно заметил, что многие, вполне практичные люди, проявляют наивность во всем, что касается сферы искусства, будь то искусство слова или живопись, или сцена. Но как быстро, однако, эти наивные практики научаются извлекать из того, что они считают искусством, деньги, или же известность.
Итак, дневник турчанки, волею судьбы кончившей дни в Париже. Я увидел в этом что-то созвучное своему грустному жизненному пути.
Забегая вперед, скажу, что я прочел «турецкую часть» дневника Наджие-ханым и, заручившись согласием Мадлен и Жана, опубликовал (с некоторыми сокращениями, разумеется). Книга даже имела определенный успех, благодаря которому несколько улучшилось материальное положение молодой семьи. Но это все случилось уже в самом конце войны.
А пока, прикрываясь тонкими страницами, я бросал внимательные взгляды на молодую женщину с ребенком на руках, пытаясь увидеть в их лицах нечто характерное для моих соотечественников и, вероятно, и для меня самого. Порою мне казалось, что я различаю это таинственное нечто, смутно напоминающее о светлых, почти ирреальных днях раннего детства.
5
Итак, мое возвращение на родину было приятным. Можно сказать, я возвращался не один; меня сопровождали слова юной моей соотечественницы — Наджие-ханым. Короче, Мадлен и Жан доверили мне «турецкую часть» ее дневника.
Впрочем, они позволили мне прочесть и то, что было написано по-французски.
Конечно, жизнь Наджие-ханым — мадам Надин могла предоставить материалы для написания нескольких романов. Бедняжка, она умерла в больнице от какого-то затяжного старческого заболевания, лишившего эту несчастную женщину разума.
Страстная и отчаянная, она чем-то напомнила мне мятущихся героинь Достоевского. Думаю, она заслуживала лучшей участи. Она была талантлива, своеобразно мыслила, отличалась утонченным вкусом и до ужаса была непрактична — обаятельный тип турчанки из богатой семьи. Не знаю, сохранились ли еще такие женщины…
Разведенная молодая женщина, она жила у родителей. Но вот без гроша, оставив за собой целый шлейф сплетен и скандальных пересудов, она уезжает в двадцать первом году в Париж вместе с черкесским князем, офицером русской армии, которого гражданская война в России вынудила бежать в Истанбул. Далее — исполненная бедности, мелочных ссор, забот, — жизнь парижской окраины. Бедняжка Наджие-ханым совершенно не годилась на роль окраинной мещаночки, так же, впрочем, как и ее муж странно выглядел в роли парижского таксиста. Далее — самоубийство мужа, нищета, хождение по благотворительным учреждениям, и наконец — удачное замужество дочери, зять-наборщик сумел дать семье, то что называется, верный кусок хлеба. Но истощенная выпавшими на ее долю испытаниями, мадам Надин вскоре после рождения внука тяжело заболела и скончалась, никого не узнавая перед смертью.
Эта женщина была мне близка своим стремлением к странным, авантюрным поступкам. Я и сам во многом таков. Хотя в моей жизни всегда существовал сдерживающий фактор — мои занятия литературой, потребность совершать авантюрные поступки постоянно заглушалась не менее насущной потребностью трудиться за письменным столом. Если бы мне довелось встретить Наджие-ханым в свои сравнительно молодые годы; вероятно, после короткого периода душевной близости и телесных удовольствий она начала бы меня мучить вольно или невольно, я счел бы ее взбалмошной и нелепой, и мы бы расстались, ненавидя друг друга. Но если бы мы встретились сейчас, пожилыми людьми, нам было бы о чем поговорить, чем поделиться.
Кажется, я давно и отчасти благополучно пережил тот период, когда максималистски делишь человечество на враждебные группировки — на мужчин и женщин, на врагов и патриотов, на борцов и предателей, и так далее. Впрочем, для меня это был период; для многих знакомых мне людей это оказалось не периодом, но жизненной сутью. Кажется, почти все так живут, кроме таких странных индивидуумов, как Наджие-ханым или ваш покорный слуга. Именно поэтому мы в этой жизни — не ко двору.
Если человек совершил один странный поступок, ему уже легче совершить другой, еще более странный. Так и второму браку Наджие-ханым предшествовал достаточно необычный эпизод, словно бы подготовивший ее к дальнейшим странностям.
Об этом эпизоде и повествует «турецкая часть» ее дневника, с которой я и собираюсь вас ознакомить. Как вы увидите в дальнейшем, Наджие-ханым не датировала свои записи. Описанные ею события заняли примерно год — с середины четырнадцатого до середины пятнадцатого года.
Иногда, листая страницы дневника этой странной женщины, я вспоминал детство — маленький городок с полуразрушенным мостом и старинной мечетью, быструю звонкую речушку; дом почти деревенский моего деда, сюда наша семья порою наезжала летом. Вспоминаю я и свою первую любовь, все эти смутные и странные ощущения, боль и радость, вызванные одним лишь коротким лицезрением соседки — девочки лет пяти-шести. Вспоминаю ее большие серьезные глаза, длинное платьице, широкий белый платок, покрывающий черноволосую головку. Я так и не заговорил с ней. Я был чуть старше нее. Возможно, если бы мы заговорили, я испытал бы разочарование. Но когда я читал дневник Наджие-ханым, мне казалось, что та девочка из моего детства выросла, и, сделавшись взрослой юной женщиной, не утратила своего детского таинственного обаяния. И вот она говорит со мной, говорит, поверяя мне свою грустную, странную, немного взбалмошную, удивительную душу.

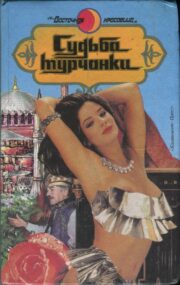
"Врач-армянин" отзывы
Отзывы читателей о книге "Врач-армянин". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Врач-армянин" друзьям в соцсетях.