Послушайте и вы ее голос, и не сердитесь на мои старческие комментарии, которыми я изредка позволяю себе перемежать ее рассказ.
6
… ни за что не буду ставить число, название месяца и год! В конце концов это дневник женщины, а не бухгалтерский отчет ее меркантильного супруга о положении дел в конторе. Так и только так!
В сегодняшнем дне, как всегда, перемешаны черное и светлое.
На лето мы переехали на дачу в Тарабью. С балкона дачного особняка моего отца открывается приятный вид на Босфор — светлая зелень листвы на берегах и темно-голубая вода.
Особняк моего отца. В этом вся суть. Хотя дела моего супруга идут совсем не так уж плохо (насколько я могу судить по его разговорам с моим отцом), но лето мы проводим в особняке моего отца. Поэтому Джемиль дуется и то и дело находит повод придраться ко мне и испортить мне настроение. Ничто так не портит настроение, как мелочные придирки человека, чувствующего себя униженным и зависимым. Доля истины во всем этом, конечно, есть. Джемиль зависит от моего отца. Джемиль — человек нервный, а мой отец не склонен к деликатности; во всяком случае, когда речь идет о Джемиле.
Мама, кажется, чувствует себя виноватой передо мной. Еще бы, ведь она так хотела выдать меня замуж, сбыть с рук. Теперь она пристально следит за каждым словом, за каждым жестом Джемиля и то и дело пеняет ему за то, что он дурно обращается со мной. Как хорошо, что мы вынуждены жить вместе только в дачный сезон.
Когда я еще воображала, что между мной и Джемилем могут возникнуть нормальные человеческие отношения, я всячески старалась примирить его с моими родителями. Я ломала себе голову над тем, что же делать мне. Когда я принимала сторону Джемиля, он принимался чуть ли не с пеной у рта упрекать меня в притворстве. Когда я пыталась нежно уговаривать маму, она начинала кричать, что не выносит этой моей притворной ласковости.
Теперь я перестала думать о том, чтобы успокоить их. Возможно, мне не следовало так быстро сдаваться; возможно, со стороны я выгляжу отвратительно. Но кому я интересна? Кто видит меня со стороны? Кто, кроме меня самой? Ведь в других семьях все то же самое — бесконечные семейные дрязги и мелочное выяснение отношений. Вот и я теперь живу бездумно, как другие молодые женщины. Огрызаюсь, спешу ответить обидой на обиду. Считаю, что я чуть ли не центр вселенной и что я во всем права. Я перестала обдумывать, оценивать свои действия, чувства и мысли. Порою у меня возникает странное ощущение, будто я превратилась в разжиревшую бабу-распустеху, которая весь смысл жизни ощущает в еде, и давно перестала сдерживать свое чревоугодие. Разумеется, у меня не такая уж плохая фигура, я слежу за своей внешностью; но разве я не забросила свою душу, разве не позволяю ей коснеть в эгоизме и самовлюбленной лености? Да, и еще раз да! Что еще я могу себе ответить!
Джемиль. Чтобы имя так не подходило человеку! Не знаю, смеяться мне или плакать.
Но лучше вернусь к описанию сегодняшнего дня.
Приморские чайки. Это ужасно! По утрам они поднимают неописуемый галдеж на балконе. Издали эти птицы такие красивые, но когда ежедневно слышишь отчаянные, надрывные, хриплые вопли… Вот уж поистине живая аллегория человеческих отношений — в книгах — одно и очень даже красиво, а вблизи — в жизни… Я придумала — чайка — аллегория брачной жизни, издали и вблизи.
В истанбульском доме Джемиля у нас давно уже отдельные спальни, но здесь, в Тарабье, мы разыгрываем для моих родителей скучную комедию семейной жизни. Приходится проводить ночи вместе и по утрам выходить из общей спальни под бдительным и подозрительным взглядом моей любящей матери.
О, эти ночи! Муж закутывается в халат и спустя короткое время начинает громко храпеть. Прежде мне даже казалось, он это нарочно, демонстративно. Но потом я поняла, что этот храп для него вполне естественен. Я в пеньюаре устраиваюсь на самом краю широкого супружеского ложа и… принимаюсь за чтение. После откладываю книгу и засыпаю. Будят меня обычно крики чаек.
Сегодня с утра Элени, моя греческая служанка, гладит белье. Вчера прачка окончила стирку и мне досталось от матери за то, что, во-первых, я, по ее мнению, переплатила прачке; а во-вторых, не записала белье.
Итак, вчера — мать, сегодня — наступила очередь Джемиля. Вошел в кухню и сунул нос в корзину. Вынул наугад белую кофточку и потряс на вытянутых руках. Затем последовал скандал. А горничная между тем гладила с самым что ни на есть преданным видом и с удовольствием слушала. На этот раз мне досталось за то, что кофточка стоит не менее пяти лир, а надевала я ее всего несколько раз, и вот уже она ни на что не похожа. И все это выкрикивалось прямо мне в лицо. Я отпрянула и вся сосредоточилась на том, чтобы брызги слюны, которые так и летели изо рта моего супруга, не попали мне на лицо и на руки. Последним усилием я заставила себя сдержаться и не крикнуть ему, что отец дал за мной большое приданое и что не только эта несчастная кофточка, но и сама контора Джемиля возникла благодаря деньгам моего отца. Я сдержалась, заставила себя сдержаться, хотя, возможно, Джемиль, сам не вполне осознавая свое желание, ждал, что я напомню ему об этих пресловутых деньгах. Тогда он мог бы накричать на меня еще сильнее. Может быть, я решилась бы дать ему пощечину; может быть, он бросился бы на меня с кулаками. И все это… принесло бы ему облегчение. А мне? Стыдно признаться, но такой вариант не исключен — и мне буйная безобразная ссора могла бы принести облегчение.
Происшествие с кофточкой случилось еще до завтрака. Во время завтрака приятные проявления семейного согласия умножились. Завтракаем по французски — все вместе за круглым столом. Приходится терпеть нервическую заботливость мамы, которая каждое утро смотрит на меня таким взглядом, будто хочет во что бы то ни стало углядеть признаки беременности. И почему-то именно утром она на меня так смотрит. Она что, полагает, что ночью я забеременею, а утром она увидит? Боже, какая я ужасная! Какие гадкие, циничные мысли. И это я, которая с отвращением отложила «Ля ви» Мопассана, потому что этот роман — «Жизнь» — показался мне непристойным и грязным.
Отец жует с мрачным видом. Мама и Джемиль следят за каждым моим глотком. Иногда мама велит мне есть одно и не есть другое. При этом она многозначительно поднимает брови и озабоченно смотрит на Джемиля, как бы намекая всем своим видом на мою возможную беременность. Неужели она и вправду ничего не видит, не замечает, не понимает, что наш брак — мнимость? Ну как можно быть такой? Лицо Джемиля принимает саркастическое выражение. Я чувствую, что раздавлена всей этой унизительной ситуацией. Да, мне неприятно вступать с ним в интимную близость. Я не могу себе представить, что существуют на свете женщины, которым было бы приятно ложиться в постель с мужчинами. Я понимаю любовь, душевную близость, но только не этот гадкий стыд. Мне непонятно его грубое презрение, за которым, я чувствую, кроется бездна всевозможного, неведомого мне неприличия.
Дома Джемиль не упустит случая упрекнуть меня в том, что я слишком много ем. Ему приятно таким образом унижать меня. В присутствии моих родителей он, конечно, не станет делать мне таких упреков, но по-прежнему следит за мной. Меня даже поражает, как он замечает, запоминает такие мелочи — сколько я съела гренков, сколько тартинок намазала маслом. Откровенно говоря, я и вправду люблю отведать чего-нибудь вкусного, это ведь доставляет такое удовольствие. Не понимаю женщин, которые ограничивают себя в еде ради того, чтобы сохранить стройность. Впрочем, мне легко не понимать их, когда я смотрюсь в своей отдельной спальне в нашем городском доме в зеркало, вделанное в дверцу большого шкафа, волшебное стекло отражает довольно тонкую фигурку. Так что я могу себе позволить съесть что-нибудь вкусненькое… Но какие это все пошлые рассуждения. Зачем?.. Разве на самом деле я такая? Разве я пошлая, самовлюбленная, почти комичная?
Иногда, когда мы все вместе за столом, на меня находит какое-то затмение; мне начинает казаться, будто я принадлежу к некоей маленькой дружной семье, где все искренне любят друг друга, где все мило и дружески. У меня появляется какая-то странная потребность добродушно шутить. Что в этом странного? То, что в нашей семье это совершенно не принято. И, откровенно говоря, не думаю, чтобы я умела шутить. Наверное, мои шутки, да еще в той атмосфере, что царит за нашим столом, выходят неуклюжими, как слон в посудной лавке.
Вот и теперь. Я съела два гренка с маслом и быстро выпила свою чашку кафе-о-ле — кофе с молоком. Остальные еще не пили кофе.
— Какая я глупая, — я засмеялась. — Сама себя оставила без кофе! И куда торопилась?
Далее произошло вот что. Отец кинул на меня неприязненный взгляд. Я не нравлюсь отцу. Он всю жизнь заботился обо мне, но я никогда не нравилась ему. Мне кажется, он воспринимает меня как неуклюжее, глупое, нелепое существо. И в этом качестве он меня жалеет. Мама поспешно передала мне свой кофе.
— Возьми, Наджие.
Я взяла ее чашку и отпила. Тут вступил Джемиль. Началась обычная гротескная фантасмагория. Джемиль с апломбом уверял маму, что ему вовсе не жаль для меня лишней чашки кофе, но в конце концов я замужняя женщина и должна избавиться от ребяческих привычек и стать серьезной. Если каждому предназначена одна чашка кофе, значит, каждый и должен выпить одну чашку, не больше. Нет, ему не жаль, но суть в принципе. В семейной жизни необходима упорядоченность, а я совершенно безалаберна. И так далее, и так далее.
Мама заявила, что это ее чашка и она вольна поступать со своей чашкой, как угодно; например, передать мне. Я тоже не сумела удержаться и принялась горячо доказывать мужу, что моя мать не ребенок и может сама распорядиться своей чашкой кофе. Мама высоко подняла тонкие брови и посмотрела на Джемиля этим своим озабоченным многозначительным взглядом, она, конечно, хотела сказать, что, может быть, я беременна и потому мне следует уступать. Джемиль прекрасно понял ее взгляд, немного запрокинул голову и саркастически захохотал. У него длинная смуглая, крупно сморщенная шея. Под морщинами бугрится кадык. Мама приняла на себя оскорбленный вид.

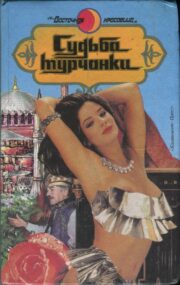
"Врач-армянин" отзывы
Отзывы читателей о книге "Врач-армянин". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Врач-армянин" друзьям в соцсетях.