Я отхлебнула порядочный глоток, это была домашняя наливка. Очень вкусная, кстати.
– Что это? – спросила я.
– Понравилось? – улыбнулась Иза.
– Очень.
– Ореховая, по рецепту моей бабки, хочешь, запишу тебе его?
Я покачала головой.
– К этому делу нужен талант, а у меня его ни на грош. А что это за годовщина, могу я спросить?
– Можешь, – ответила она с усмешкой. – Праздную пятый год своей свободы.
– Ты разведенная?
– Ага.
Она подлила мне в стакан.
– Ой, не надо, я быстро пьянею, – запротестовала я.
– Не волнуйся, – сказала она. – В крайнем случае возьму тебя на руки и дотащу до камеры.
– Вот будет сцена, – рассмеялась я.
Я чувствовала себя все лучше, Иза рассказывала мне о последнем заседании пенитенциарной комиссии, да так забавно, что я покатывалась со смеху. Я уже успела познакомиться с большинством из входивших в нее людей, а Иза пародировала их блестяще. Лучше всего у нее выходил наш директор тюрьмы, она до ужаса смешно передразнивала его манеру говорить – с расстановкой и акцентированием носовых «а» и «е», чуть флегматично.
Нам стало неудобно на твердых стульях, и мы перебрались на пол. Сидели, привалившись спиной к стене, подобрав колени к подбородку.
В бутылке уже здорово поубавилось, вскоре Иза вытрясла из нее последнюю каплю.
– У меня еще есть ментоловый ликер, – сказала она.
– Иза! – ужаснулась я. – Мы напьемся в стельку!
– Подумаешь! – махнула она рукой. – Один раз живем.
– Ас кем ты сейчас живешь? – спросила я неожиданно для себя самой.
Она пожала плечами:
– Да с одним типом, лишь бы только он окончательно не захотел переехать ко мне. Зачем мне это? Все это хлопоты трефовые… Сперва носят тебе розы с душистым горошком, а потом швыряют вонючие носки где попало. Мерзость.
– Ты развелась, потому что твой муж разбрасывал носки?
– Нет, развелась, потому что он был такой же дурак, как этот твой Эдвардик… Собственными руками бы его удушила за то, что из-за него ты здесь… Ты… такой прекрасный человек!
– Да ты что говоришь! – запротестовала я.
– Ни один мужик тебе в подметки не годится. Дарья! Я горжусь тем, что я, как и ты, женщина!
Что она, эта Иза, плетет, ужаснулась я про себя. Зачем она это говорит?
Я навострила уши, вдруг представив себе, что после такого вступления последуют декларации, а то и предложение, которое я не смогу принять. И наши отношения испортятся. Горькая обида на нее захлестнула меня. За то, что она заманила меня к себе. И если окажется, что Иза предпочитает женщин, я не смогу больше с ней дружить. То есть дружить смогла бы, если бы она не требовала от меня взаимности.
– Иза, – сказала я. – Я люблю мужчин…
– Тогда почему ты выстрелила в мужчину?
Я чувствовала, как он напирает на меня и мое тело уступает. Не было больше того порога, о который столько раз он спотыкался и на котором мы оба терпели поражения. Я выигрывала безнадежное сражение, которое столько лет вела сама с собой.
Выигрывала, потому что хотела выиграть, несмотря на то что видела, как Эдвард меняется, как на висках его набухают жилы. Надо мной было его набрякшее кровью, обрюзглое лицо. Но это был все-таки он, человек, которого я любила…
Только… с ним стало твориться что-то не то. Он сполз на бок и вдруг зарыдал:
– Отпусти меня! Умоляю, заклинаю – отпусти!
В первый момент я не поняла, а потом сообразила, что эти слова обращены не ко мне. На сей раз кто-то третий воздвиг между нами непроходимую стену для нашей любви…
Я видела перед собой его трясущуюся в рыданиях спину.
Встала и потянулась за одеждой. На полу в кабинете рядом с моей юбкой и блузкой валялись его брюки. Они выглядели как мертвые. Раскинутые штанины застыли без движения… Я хотела поднять их, нагнулась за ними, но потом вдруг выпрямилась, и моя рука скользнула в тайник за картиной, где мой дядя держал пистолет. Я взяла его и вернулась обратно в спальню. Похоже, что тогда я еще не сознавала, что собираюсь сделать. Я просто возвращалась к Эдварду с пистолетом в руках. И только увидев, как он одевается, как натягивает свои трусы до колен…
Сегодня в нашу читальню заглянула Натурщица Вермеера, как я называла ее про себя. Раньше она тут никогда не появлялась, хотя именно здесь проходила светская жизнь тюрьмы. Женщины играли в карты, в шашки, смотрели телевизор, вязали. В углу на плитке стоял чайник, вода в нем кипятилась постоянно. Заключенные заваривали себе кофе – все помещение пропахло его ароматом. Приходили сюда сразу после ужина.
Увидев ее, я почему-то подумала, что она ищет себе исповедника. Как другие. Мне совсем это не было нужно, я уже была сыта по горло чужими историями.
Она присела за столик. Я чувствовала, что она ждет, когда я к ней подойду. Внутренне с трудом преодолев себя, я все– таки направилась к ней. Присела рядом. Мы помолчали.
– Сколько времени? – наконец спросила она.
Я глянула на часы:
– Двадцать минут пятого.
Она кивнула, а потом протянула мне под нос свое запястье:
– А у меня на часах сколько?
– Десять минут второго, – ответила я удивленно, не зная еще, к чему она клонит.
– Остановились минута в минуту. Всегда так останавливаются, год за годом…
– Надо отдать их часовщику.
– Отдавала, но тот говорит, что с ними полный порядок. Когда покойник падал, то ударил их об землю, стеклышко разбилось вдребезги, а стрелки замерли на десяти минутах второго. И мои часы встают в каждую годовщину…
Она опустила глаза и совсем стала похожа на женщину с картины. У нее было точно такое же выражение лица, как и у той.
– Ты, наверно, думаешь об этом и не заводишь их…
– Вот еще, – дернула она плечом. – Завожу.
Я не знала, что ей сказать.
– Ты боишься? – спросила я.
Она вскинула на меня глаза:
– Покойника?
– Не знаю… чего-нибудь…
– Вообще не боюсь, но мне все время кажется, что окно не закрыто и он падает на меня…
Агата выходит на волю! Это кажется почти неправдоподобным, на этой паре квадратных метров мы провели вместе два года. И наши отношения складывались довольно драматично, но в конце концов мы помирились, как велит католическая вера. Я нашла в себе с ней что-то общее, в числе прочего такой же страх перед приближающимся освобождением. Тюрьма стала для меня жизненным уроком. Все, что было до этого, было только литературной игрой, теперь я увидела настоящее обличье реальности. И с этой мерзостью вынуждена была мириться и находить в себе своего рода примирение с ней – одно из условий моего выживания здесь. До конца я осознала это во время трехдневного увольнения. Я просила избавить меня от этой привилегии. Но Иза решительно настояла.
– Ты должна выйти отсюда хоть на немного, – сказала она. – В противном случае ты потом можешь не справиться с полученной свободой. Посмотри на людей, как они выглядят по ту сторону этих стен…
– Я боюсь.
– Ты должна выйти к людям!
– Ничего я не должна! – возразила я.
Мы молча смотрели друг на друга.
– Иза, – сказала я наконец, – мне некуда пойти.
– А дядя?
– Я не могу пока с ним встречаться.
Она задумалась на минуту.
– Поезжай в горы.
Я думала, она шутит, но она это предложила вполне серьезно. Записала мне адрес своей знакомой в горах и дала кое-какую одежду – при выходе я получила бы из камеры хранения только свою теплую юбку и сапоги. И это в середине лета! Ее туфли были мне великоваты, у нее был размер побольше.
На станцию я пошла пешком. Деревья, которые пару лет назад встретили меня голыми остовами, теперь были зелеными, листья на них даже слегка пожухли – в этом году было мало дождей. Я шла по песчаной дорожке, ощущая на лице дуновение теплого, пронизанного запахом скошенной травы ветерка. Это было первым сильным впечатлением после выхода из стен тюрьмы – на свете много воздуха и он наполнен благоуханием.
Я привыкла к совсем другим запахам. В камере воняло, в библиотеке несло пылью, а в коридорах в нос ударял запах лизола, которым дезинфицировали помещения. На прогулки я не ходила, потому что это топтание на месте было таким же унизительным, как и заковывание меня в наручники. Мне было муторно от этого, и я попросила освободить меня от этой почетной привилегии. Вот почему первое мое впечатление от свободы было таким – мир благоухает! Пока я шла до станции, у меня кружилась голова от избытка кислорода. То мне вдруг мерещилось, что моим легким больно. А то я чувствовала, как мои волосы пахнут ветром, и это было самым чудесным ощущением. Я пахну ветром!
Здание станции было видно издалека. Оно стояло в чистом поле, с ломаной крышей с красной черепицей, на окнах – ящички с геранью. Мне даже представилось, как к вокзалу подъезжает черный длинный лимузин и из него выходит джентльмен с сигарой в зубах. Этот пресловутый джентльмен мог бы прискакать верхом, с лассо у седла и в широкополой шляпе. Получилась бы сценка, как на Диком Западе, с той только разницей, что здесь была бы не к месту унылая стена станционного здания. Я вошла на перрон, усыпанный гравием, и присела на лавку рядом с вывеской «Станция Кованец».
Иза потом спросила меня, какими были мои первые впечатления от свободы, что мне больше всего запомнилось.
– Воздух, – ответила я. – Много воздуха.
Она расхохоталась:
– Первый раз слышу такое из уст заключенного. Обычно говорят: задница, водка, колбаса. Но воздух!
А еще – непосредственное соприкосновение с землей. Туфли Изы спадали у меня с ног, я скинула их и шагала босиком, а их несла в руках, как делает это деревенская баба по дороге в костел. Мои ступни щекотал нагретый солнцем песок, пересыпавшийся между пальцев.
Женщина, к которой меня направила Иза, приняла меня очень сердечно, проводила по деревянной лесенке наверх в светелку. Я так устала, что тут же заснула крепким сном. Никогда не бывало, чтоб я так отключалась от всего, что творилось вокруг. В тюрьме у меня был чуткий сон, в него проникали все звуки камеры. Я даже начала подозревать, что не смогу больше спать в тишине. А здесь царила абсолютная тишина. Возможно, от нее я и проснулась. Было еще очень рано. Я подошла к окну. У самой горы виднелась полоска розовеющего неба, чуть пониже – стального цвета пики, а еще ниже клубился туман, похожий на серебристо-белое облако. В какой-то момент его пронзили, словно длинные острые стрелы, лучи солнца и, пройдя насквозь, залили золотом всю долину. Это было захватывающее зрелище, которое, как я подозревала, природа устроила в мою честь. Ничего подобного до сих пор я не видала. Хоть мы и бывали с Эдвардом в Закопане, но в горы не поднимались, он считал это излишним – никогда не был любителем пеших походов. Большую часть времени мы проводили в шезлонгах на террасе «Астории», откуда, по словам моего мужа, открывался довольно красивый вид. Но если бы он увидел этот восход солнца, то, возможно, изменил бы свое мнение. Вид с террасы дома отдыха Союза писателей был не очень красивым, но чтоб понять это, мне пришлось пройти очень долгий путь…

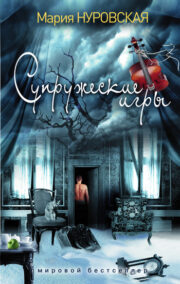
"Супружеские игры" отзывы
Отзывы читателей о книге "Супружеские игры". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Супружеские игры" друзьям в соцсетях.