— А вы сами-то куда идете, тетенька? — спросила I Наташа.
— Я, милая, в Протасово иду, сродствие у меня там. А сама я тишковская… Ну, будьте здоровы, до свиданьица, а то заговорилась я с вами, а день-то к вечеру, и сноха меня в Протасове дожидается…
Она поклонилась нам, подняла на плечо свое коромысло с укрытыми марлей и листьями корзинками и, не торопясь, двинулась по дороге в ту сторону, откуда пришли мы, а мы свернули на ее тропинку и снова очутились в лесу и зашагали к незнакомому озерцу, около которого нам предстояло свернуть налево.
Наташа сначала шла сзади меня, а потом, смеясь, сказала, что ее могут утащить лешие или черти, а я и не замечу, и попросилась вперед. Я пропустил ее вперед, и мы сразу пошли медленнее, потому что, когда я шел первым, я шел быстро (становилось все темнее и темнее), а она все время отставала, и я ждал ее, и ей, наверное, было страшно. Поэтому она и запросилась вперед, хотя знала, что идти после этого мы будем в два раза тише, но, видно, она решила, что лучше идти медленно и ничего не бояться, чем идти быстро и все время оглядываться назад.
Теперь она шла впереди меня и почти не оглядывалась. Только иногда, когда раздавался какой-нибудь непонятный лесной скрип или шорох, треск сучьев или шум листьев, она замедляла шаг, останавливалась, поворачивала голову и вопросительно смотрела на меня, словно я был величайшим знатоком и толкователем всей ночной жизни в лесу. И поскольку она так думала, я старался не разубеждать ее в этих мыслях, и каждый раз, когда она безмолвно обращалась ко мне за объяснением незнакомого звука, я делал рукой успокоительный жест, как бы говоря, что все в порядке, что ей ничего не угрожает и что, пока я рядом, она может чувствовать себя в полной безопасности.
Сумерки еще не до конца превратились в ночь, а между верхушками деревьев уже возникло и двинулось вслед за ними еле обозначенное в сером небе бледно-лимонное пятно лунного диска. Оно было такое прозрачное, такое призрачное и нереальное, будто находилось не на своем постоянном месте старинного и привычного спутника Земли, а плавало где-то в туманных космических далях, вне нашей солнечной системы, где-то в неведомых, еще не открытых, еще недоступных ни сердцу, ни разуму галактиках.
Но чем темнее становилось в лесу, чем смелее выходили из-под кустов и деревьев черные краски ночи, тем быстрее возвращалась луна к земле, тем надежнее, круглее и ярче становился тугой лунный диск, словно он хотел убедить находящуюся в его ведении половину планеты в том, что будет достойным преемником солнца и ни в чем не уступит своему могущественному дневному сопернику.
Тропинка петляла по лесу. Ветви колючих елей приглашали ее то вправо, то влево, и Наташа, когда попадалась какая-нибудь особо тяжелая хвойная лапа, осторожно отводила ее в сторону от своего-лица, и, задержав в руке, говорила мне:
— Лови!
И отпускала тугую ветку, и я ловил ее наугад в темноте, и Наташа тихо смеялась впереди меня, а потом шла дальше, и я шел за ней.
Лесное озерцо сверкнуло между деревьями глянцевым отблеском своей неподвижной поверхности. Луна на секунду окунулась в воду, мы свернули налево, и луна снова прыгнула вверх, на верхушки деревьев, и снова двинулась вслед за нами — близкая, круглая, пронзительно яркая и неотвязчиво преданная.
Скоро лес кончился, начался кустарник, тропинка сделалась совсем узкой, и Наташа шла передо мной всего шагах в трех, и я, глядя на ее белевшую впереди спину, как-то по-особенному, совсем незрительно ощущал ее присутствие, будто мы были с ней двумя составными частями какого-то большого и единого целого, двумя настороженными, напряженными полюсами чего-то тревожного, тяготения и взаимного отталкивания.
Это было похоже на работу гигантской электрической машины: гудят провода, искрят соединения, мерцания, отсветы, вспышки, а внутри нарастают шумы, возникает далекий гул, ширится, приближается, увеличивается, повисает над головой, на одном волоске и…
…Кустарник внезапно оборвался, я сделал несколько слепых шагов за Наташей и, почувствовав, что вокруг меня что-то изменилось, остановился.
— Что с тобой? — донесся до меня издалека ее голос.
Я тряхнул головой. Гул утихал, отдалялся, меньше искрило, гасли вспышки.
— Смотри, как красиво, — тихо сказал рядом Наташин голос.
Напряжение спадало, спадало, стрелки возвращались на свои места, мерцание становилось привычнее, гасло, тускнело — щелк. Подача энергии прекратилась, и все остановилось. Замерло.
Мы стояли на краю невысокого холма. Впереди и внизу перед нами лежала огромная, ярко освещенная лунным светом безмолвная равнина. Она была так велика и тиха, что и зрительные и звуковые границы ее были почти неразличимы, исчезали, терялись где-то вдалеке, и мне показалось на мгновение, что после долгого и беспорядочного блуждания по лесу мы вышли, наконец, и стоим теперь на краю света, на том самом краю, за которым ничего нет — ни земли, ни воздуха, ни жизни.
И это впечатление особенно усиливалось и подчеркивалось множеством больших, вытянутых в длину стогов сена, которые были разбросаны по всему лугу. Они были похожи на стадо древних ископаемых мамонтов, которое вышло оттуда, из-за края земли, из небытия, и разбрелось теперь по равнине, и пасется, и щиплет траву, и медленно приближается к нам.
Стога были освещены ярким лунным светом, и это делало их какими-то особо лобастыми, бодливыми и горбатыми, а большие черные тени, падавшие от каждого стога назад и в сторону, еще более увеличивали их размеры и сходство с доисторическими чудовищами, забредшими сюда из глубины веков.
— Ты знаешь… — сказала Наташа дрогнувшим голосом и замолчала.
Я посмотрел на нее. Она была вся какая-то съежившаяся, испуганная.
— Мы не доберемся сегодня до Москвы, — сказала Наташа.
Я посмотрел вниз. Прямо под нами лежал старый песчаный карьер. Тропинка доходила до него и исчезла. И никаких признаков ее нельзя было обнаружить на лугу, хотя было полнолуние и было светло почти как днем.
Куда идти по этой бесконечной, безмолвной равнине, чтобы попасть на дорогу? В какую сторону? И ходят ли сейчас вообще где-нибудь в этом краю машины, когда так оглушительно тихо вокруг, будто все вымерло и жизнь прекратилась здесь на долгие годы?
Я молчал. Я не знал, что ей ответить. Она испугалась, она обращалась ко мне за помощью, она ждала, чтобы я опроверг ее слова, чтобы я помог ей выбраться отсюда. Но я молчал.
И тогда она сказала мне то, во что ей так не хотелось поверить.
— Нет, не доберемся, — сказала Наташа и вздохнула.
Я давно уже шел по другой, совсем не знакомой мне улице. Давно уже не было ни его дома, ни его цветных штор, ни градусника на окне. Какую он показывает сейчас температуру за теми желтыми шторами?.. Плевать мне теперь на это. Мне давно уже не нужно было ничего этого. Я давно уже перешагнул через сегодняшний день. И только память все еще продолжала лечить недавнюю рану, все еще врачевала засевшие глубоко внутри осколки того хрупкого и единственного, что так долго и так бережно нес я на руках.
Я шел по темной московской улице и не шел по темной московской улице. Я стоял на месте, но не здесь, не один, а там, далеко, на вершине высокого стога, облитого белым лунным сиянием, стоял рядом с нею. Где-то на краях равнины рождались туманы, зеленовато-пепельные в свете луны. Они бродили вдалеке, не приближаясь, окружая нас едва различимым дымчатым кольцом, а весь остальной луг, и рядом с нами, и дальше, был четко освещен ровным стальным светом, делающим долину похожей на музейный, аккуратно подстриженный газон, и сами стога были теперь уже не мамонты, а были полуразрушенные временем пирамиды, огромные искусственные сооружения, созданные десятками тысяч людей, ходивших по этой земле много веков назад. Стога были похожи на памятники — памятники чему-то далекому и забытому, которые были воздвигнуты в честь великих и древних богов, живших и любивших на этой земле совсем по другим законам и правилам.
И мы стояли с ней посреди этой вымершей страны и над нею, как пришельцы из других миров, более сложных и суровых, и думали о том, как неожиданно и безгранично щедра может быть жизнь, и удивлялись и одновременно восторгались жизнью.
…Когда мы решили остаться на этой равнине до утра, я быстро спустился вниз по карьеру и побежал вперед. Я легко бежал по серебристо-прозрачному лугу, между большими стогами сена, бежал как первый человек на земле, еще ничего не знающий, еще от всего свободный, бежал, увлекаемый только одним изначальным инстинктом — инстинктом выбора гнезда для двоих.
И когда я увидел перед собой высокий и могучий, не похожий на все остальные стог-великан, я стремительно бросился к нему и почти без усилий, как на крыльях, взлетел на его вершину. И только тогда, когда я вот-вот готов был уже выпрямиться, я почувствовал вдруг, что сила, бросившая меня вверх, иссякает и что земля тянет меня к себе, назад. И, напружинив все мускулы сразу, я вцепился в сено руками и ногами (и, наверное, зубами) и, сделав отчаянное усилие, подтянулся вверх и, прежде чем вырванные мною клочки посыпались вниз, уже встал на ноги, и выпрямился, и поднял голову, и оглянулся, как победитель.
И я увидел ее, далекую и почти нереальную, неподвижно застывшую на холме, над старым песчаным откосом, всю посеребренную невидимыми лучами холодного ночного солнца.
Я поднял руку. Она увидела меня и тоже подняла руку, а потом спустилась с холма и медленно пошла ко мне. Она медленно шла ко мне по зеленовато-прозрачному лугу, между большими, вытянутыми в длину стогами сена, околдованная светлой лунной ночью, шла как первая женщина на земле, еще ничего не знающая, еще от всего свободная, но уже властно подчиненная изначальному инстинкту — тяге к гнезду, избранному для нее другим.
И когда она подошла к моему стогу, я лег на край и протянул ей руки. И она вложила свои руки в мои руки, и я начал медленно и осторожно поднимать ее к себе, на вершину. И когда ее лицо оказалось почти рядом с моим, я снова почувствовал, как тянет меня вниз, к земле. Она притягивала меня к земле легкой тяжестью своего тела, она как бы взвешивала себя на моих руках, как бы проверяла силу моих рук, которые должны были решить, где пройдет эта ночь, где нам быть с ней сегодня вдвоем — там, внизу, на земле, или здесь, на вершине стога, ближе к небу.

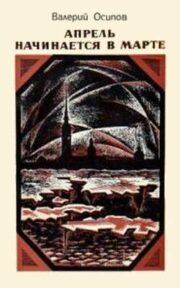
"Серебристый грибной дождь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Серебристый грибной дождь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Серебристый грибной дождь" друзьям в соцсетях.