И я снова напрягся, снова сделал усилие, снова напружинил все свои мускулы и, встав сначала на одно колено, потом на другое, а потом уж и вовсе на ноги, поднял ее к себе, на вершину, и поставил рядом с собой, на вершине.
Она выпрямилась, поправила юбку, подняла голову и замерла, удивленная новым видом уже знакомой ей лунной равнины, которая лежала теперь не только впереди, но и вокруг, а она стояла посреди нее и над нею. И я увидел, как где-то в глубине ее существа первоначальное удивление робко озаряется тихой радостью. И, не в силах больше сдерживать охвативших ее чувств, она взяла меня под руку и прижалась щекой к моему плечу, как это она делала всегда, когда молча хотела поделиться со мной каким-нибудь своим настроением.
И мы долго стояли так, прижавшись друг к другу, зачарованные видом лунной равнины и стогами сена, неторопливо бредущими через нее, и волнами ночного света, неощутимо и равномерно падающими сверху, всегда непонятно волнующими, всегда обещающими что-то. Нам казалось, что мы вознесены над землей высоко-высоко, что ничего нет между нами и небом — только одна огромная одинокая луна, заполняющая весь мир своим серебристым, как колокольный звон, своим пронзительно ярким светом. Мы стояли над заснувшей землей, над остановившейся планетой, над замершей на мгновение жизнью как вечный символ ее неиссякаемости, как неувядающий знак ее непрерывного и бесконечного продолжения.
И она, женским своим естеством ощутив значительность и необычность минуты, медленно повернулась ко мне и опустила голову. И я, услышав, как где-то в глубине ее существа трепетно рождается слабое и нежное волнение, медленно повернулся к ней и положил свои руки на ее плечи. Я понимал: то, что началось сегодня утром, в институте, и продолжалось весь день — и на пароходе, и в лесу, и здесь, на лунной равнине, — исчерпывается, завершается, близится к концу, но я почему-то никак не мог понять той активной роли, которая отводилась мне в этом завершении. Я словно ждал чего-то и от кого-то, словно сопротивлялся чему-то, не решаясь переступить через рубеж, отделяющий добро от естественности. Еще сковывала мои движения робость, которая и не хотела уже быть молодостью, но и не могла еще, наверное, стать зрелостью.
А луна, в который уже раз на своем долгом веку, смотрела на нас своим древним, выцветшим от времени белым оком, освещая холодным и безразличным светом эту извечно прекрасную, трепетную паузу перед тем, как два человеческих существа, может быть, бросят свои сердца навстречу друг другу, а тем самым — на алтарь неувядаемой бесконечности земной человеческой жизни.
Луна ждала.
И я легко притянул ее к себе и прижался губами к ее губам, и она закрыла глаза, словно хотела увидеть на своем месте не меня, а кого-то другого, и я закрыл глаза вслед за ней и сразу услышал соломенный запах ее волос. И так, не отрываясь друг от друга, слитые воедино, мы медленно начали подниматься над землей, устремляясь за облака, и дальше, и выше, и долго-долго летали там, забыв обо всем, что было до нас, и не думая о том, что будет после нас, носимые и поддерживаемые в небесах какими-то невидимыми и теплыми потоками.
А луна ждала. Она терпеливо и настойчиво поджидала того, к чему привыкла за долгие годы знакомства с людьми. Луна не сомневалась. Она уверенно посылала на землю холодные волны своего ночного света и пристально смотрела вниз, без всяких сомнений надеясь увидеть, как хорошо изученные ею человеческие инстинкты и нравы легко, как скорлупки, закачаются на этих холодных ночных волнах.
А я медлил. Я чувствовал приближение этого, но мне так было уже хорошо с ней, такой хрустальной полнотой было уже до краев заполнено все мое существо, что я не хотел ничего большего, боясь расплескать остановившееся время, боясь выронить из рук и разбить эти хрупкие секунды подаренного мне откровения. Мне казалось, что сделай я хоть один шаг, хоть одно движение — и все оборвется, как перекрученная струна, все разрушится, полетит вниз, в пропасть, и навсегда исчезнут и эта сказочная лунная равнина, и эти околдованные серебристым светом стога сена, и соломенный запах ее волос, и ее губы, нежные и трепетные, как крылья далекой, непойманной бабочки.
Мне было двадцать лет, я был идеалистом, я верил всем литературным героям, которых мы когда-то проходили в школе, я не успел еще ни разу и ни в чем разочароваться в жизни, и я твердо знал, что не имею права на нее, что между мной и ею никогда не может произойти это.
Я тихо сказал:
— Надо спать…
И она, словно очнувшись от лунного сна, так же тихо повторила:
— Да, надо спать…
Я сделал в сене две небольшие ямки и сказал ей:
— Ложись…
И она легла, а я забросал ее сверху сеном, оставив открытой только голову, а потом лег рядом и сам закрыл себя сеном, оставив открытым только лицо.
— Спокойной ночи, — тихо сказал я.
— Спокойной ночи, — так же тихо сказала она.
И так мы заснули в своём большом гнезде на вершине стога — два смешных и трогательных птенца человеческого рода, заснули над миром, под луною, недоумевая перед сложностью жизни и одновременно восторгаясь ею.
И все заснуло вместе е нами — и лунная равнина, и посеребренные стога, и небо, наполненное тихим колокольным звоном. И даже земля остановила на мгновение свой бег, бессмысленный сейчас, когда те, ради кого она совершала свое вечное кружение по спирали, двое, спали в своем большом гнезде на вершине стога — спали над миром, под луною…
Я проснулся первым и не сразу понял, где нахожусь. Светало. Слабо брезжил серый рассвет. Угасающий лунный диск, снова нереальный и призрачный, был еще обозначен слабым пятном в пепельном небе, но уже все силы покинули его. Луна забывалась тусклым, старческим забытьем, сонно закрывала свое древнее, выцветшее от времени белое око. Срок ее вышел, она была уже не нужна и теперь медленно отступала перед молодым солнцем, еще не родившимся, еще не взошедшим, но уже сильным, уже дающим о себе знать. И земля, отдохнувшая за ночь, снова тронулась с места, навстречу солнцу, увлекая вместе с собой моря и горы, леса и реки, и эту равнину, и этот луг, и этот стог, на котором лежал я. Мир рождался заново, нехотя выходя из тумана, неопределенный и расплывчатый.
Я почувствовал на щеке тихое дыхание, повернул голову влево и увидел ее. Она лежала рядом, свернувшись замысловатым крендельком, уткнувшись в мое плечо. Она еще спала, и от нее веяло теплом и тем особым ароматом, который исходит даже на расстоянии от свежего парного молока. И еще пахло стриженой детской макушкой и сухим, горьковатым сеном.
Я долго смотрел на нее. Она дышала ровно, спокойно, лицо у нее было кроткое, доверчивое, иногда она улыбалась во сне и все не просыпалась.
Я вдруг попытался представить, каким могло быть ее лицо, если бы вчера все было не так, как было, а по-другому? Наверное, она бы плакала, и на щеках у нее теперь были бы видны засохшие следы слез, наверное, она спала бы беспокойно, тревожно, и в уголках ее рта появились бы маленькие складки. А что было бы со мной?
Нет, я даже не хочу об этом думать! Мне очень хорошо оттого, что все было так, как было. И я не хочу ничего другого, кроме того, что имею сейчас. Пусть она спит теплым крендельком рядом со мной, уткнувшись в мое плечо. Пусть улыбается во сне. Пусть пахнет сеном, парным молоком и стриженой детской макушкой. Я благодарен судьбе за то, что она подарила мне сегодня утром этого доверчиво лежащего рядом теплого человека.
Неожиданно я понял, что люблю ее по-настоящему. Где-то я читал, что если вы долго смотрите утром на спящую женщину, значит, вы любите ее. Я смотрел на нее, наверное, уже целый час. Я закрывал на некоторое время глаза, пытаясь думать о чем-то другом, ни о чем другом не думалось, и я снова открывал глаза и смотрел на нее. Я готов был лежать так целую вечность. И мне ничего не было нужно от нее, кроме одного: чтобы она спала и чтобы я лежал рядом и смотрел на нее.
…Взошло солнце, и она сразу проснулась. Ресницы ее дрогнули и поднялись вверх.
Увидев меня, она несколько мгновений без всякого удивления смотрела мне прямо в глаза, словно надеялась увидеть меня именно на этом месте, рядом с собой.
А потом улыбнулась.
Она чуть приподнялась на локте, посмотрела на меня и положила голову правой щекой мне на сердце, так, что я видел теперь только ее волосы и маленькие соломинки, застрявшие в них.
— А ты хороший, — сказала она.
Я молчал. Молчала и она, было тихо, и слышно было только, как бьется мое сердце.
— Ты знаешь, — продолжала она сонным голосом, — мне приснился странный сон. Будто мы с тобой плыли куда-то на пароходе, а потом шли по лесу, а потом…
Она замолчала, и я подумал о том, что она, наверное, проснулась еще не до конца. И еще о том, что человеку чаще снится не то, что бывает, а то, что хотелось бы, а то, что было на самом деле, человеку снится, наверное, очень редко.
Она снова приподнялась на локте и повернулась ко мне лицом.
— А ведь мы и правда плыли на пароходе, — сказала она, — а потом шли по лесу. Ведь правда, да?
— Конечно, правда, согласился я.
— Как интересно! — тихо сказала она.
Потом она вдруг резко села.
— Дома ничего не знают, — тревожно сказала она. — Мама, наверное, волнуется, звонит в милицию, в скорую помощь…
Она встала, проваливаясь в сене, подошла к краю стога и тут же отодвинулась.
— Как высоко! — удивилась она. — И как мы только забрались сюда?
Я быстро соскользнул на землю.
— Садись на самый край, — сказал я снизу, — и съезжай. Я поймаю тебя.
Она села на край стога, заглянула вниз и подобрала ноги.
— Я боюсь, — сказала она.
— Не бойся. Я же поймаю…
И я вытянул вперед ладони.
Она закрыла глаза и упала на мои руки. Я некоторое время подержал ее на руках, а потом поцеловал в глаза — в левый и в правый.

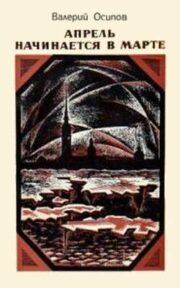
"Серебристый грибной дождь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Серебристый грибной дождь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Серебристый грибной дождь" друзьям в соцсетях.