— Нет, не надо, отпусти меня, пожалуйста, — тихо сказала она.
Я опустил ее на землю, она поправила волосы и юбку, посмотрела на стог, на котором спала и который приснился ей во сне, и мы пошли отыскивать потерянную ночью тропинку.
Она оказалась шагах в тридцати, и, когда мы снова встали на нее, мы сразу сориентировались и поняли, куда нужно идти.
Равнина, на которой стояли сметанные стога, была действительно очень большой, но теперь она уже не выглядела такой таинственной и загадочной, как ночью при лунном свете. Стога стояли только на одной ее половине, а вторая половина была еще нескошенной и совсем пустой, — видно, поэтому нам и показалось ночью, что равнина эта без конца и без краю.
Теперь мы шли по нескошенному лугу. Там, где стояли стога, сильно пахло сеном, и этот запах был такой густой, что обо всех остальных запахах просто забывалось. Теперь же пахло не сеном, а землей, и тоже очень сильно.
Из-за верхушек деревьев показалось солнце. Когда мы были на стогу, мы видели его далекий восход, когда солнце поднялось еще только за лесом. Но потом мы спустились вниз, и солнце скрылось. И пока мы искали тропинку и пока, найдя ее, шли по свободному от стогов лугу, солнце от дальнего горизонта перебралось к ближнему и догнало нас.
— Смотри, — сказала она и вытянула руку к горизонту.
Я повернул голову за ее рукой и увидел большую светлую тучу, вползающую на равнину из-за леса. Издали туча не была похожа на дождевую, но за ней тянулся какой-то подозрительный шлейф.
— Будет дождь, — сказал я.
— А как же солнце? — удивилась она. — Разве при солнце бывает дождь?
— Бывает, но редко.
— Ах, да! — засмеялась она. — Я совсем забыла… Грибной дождь, да? Когда и дождь и солнце вместе? А потом быстро-быстро растут грибы…
Она еще раз посмотрела на светлую тучу, а потом на солнце.
— Дождь не захватит нас, правда? — спросила она. — Туча пройдет в стороне?
Я, как всегда, согласился с ней, и мы пошли дальше. Впереди, в неглубокой ложбинке, виднелось несколько кустов, и, когда тропинка подвела нас к ним, я увидел, что кусты растут вокруг небольшого родничка. Она присела около воды на корточки и долго смотрела на свое перевернутое отражение. Потом провела рукой по щеке, собрала волосы сзади пучком и обернулась ко мне. Я улыбнулся — мне всегда нравилось, когда она делала себе такую прическу. Она снова отвернулась к роднику, перебросила все волосы сразу на одну сторону, потом на другую. Что-то не понравилось ей в самой себе, она ударила рукой по своему перевернутому отражению, и по воде пошли круги, а она засмеялась. Потом она встала, выгнулась, потянулась и опять засмеялась, будто поняла все-все, до конца. И снова наклонилась над родником и, зачерпнув двумя руками горсть воды, плеснула себе в лицо, и еще раз зачерпнула, и еще, и еще.
Я тоже умылся, и, не вытирая лиц, мокрые и довольные, мы отправились с ней дальше. Солнце лилось на землю широким и щедрым золотистым потоком, и капли родниковой воды в ее светлых волосах были похожи на долгие-долгие искры, на ожившие солнечные брызги, и сама она, легкая, стройная и неощутимая, вся светящаяся изнутри полнотой всех богатств и всех радостей жизни, была похожа на спустившееся с неба на землю доверчивое и доброе солнце.
Неожиданно она разбросала в стороны руки и, наклонив набок голову, быстро-быстро побежала вперед. Я бросился было за ней, но потом остановился. Я понял: она почувствовала себя птицей, в ней проснулось детское ощущение полета, ощущение парения. И не надо мешать ей. Пусть летает, пусть парит над землей, пусть будет птицей.
Она бежала то вправо, то влево, наклоняла голову то в одну, то в другую сторону, и в ту же сторону наклоняла руки, держа их на одной линии. И я понял: нет, она не птица, она играет в самолет, сама управляет им и летит, куда хочет. Она не смогла больше идти по земле, где-то в глубине ее существа завертелся пропеллер, и образовалась подъемная сила, которая и подняла ее в воздух. Я знал, что у нее часто бывает такое настроение. Сама она такое настроение называла «на одной ножке».
Она сделала по полю большой полукруг и забежала мне за спину. Я остановился и, обернувшись вполоборота, поджидал ее. Она подбежала ко мне совсем близко и вдруг остановилась, будто споткнулась обо что-то. Пропеллер перестал вращаться, и она опустила руки — что-то завладело ее вниманием, отвлекло от игры, к чему-то она прислушивалась. С ее лица вдруг исчезло беззаботное выражение «на одной ножке», и оно стало настороженным и странно значительным: уголки бровей поднялись вверх и сошлись «домиком», широко распахнулись глаза, и в них появилось ощущение какой-то близкой тревоги.
Я прислушался. Слышался шелест, далекий и мягкий. «Ветер, наверное», — подумал я. А она опустила вниз брови, уронила ресницы, и глаза ее сделались сосредоточенно-невидящими, пристально-безразличными, всматривающимися в никуда. Она поднесла руки к груди, подалась вперед и, чуть повернув назад голову, как-то пригнулась, словно ожидала нападения со спины. И во всей ее нерешительной позе — в согнутых коленях, опущенных плечах, во всей ее напряженно-расслабленной фигуре было какое-то неосознанное, но уже испуганное недоумение, какой-то незаданный вопрос, невысказанная просьба.
И вдруг она посмотрела на меня жалобно-жалобно, и очень растерянно, и совсем-совсем беззащитно. Она умоляла меня молча о чем-то, безмолвно объясняла мне что-то, она бессловесно предупреждала меня о какой-то надвигающейся опасности, в приближение которой ей так не хотелось верить. Она просила о помощи, о защите. Я шагнул к ней. Она попятилась от меня. Глаза ее озарились вспышкой мгновенного ужаса, и в эту секунду на нас упал с неба теплый солнечный дождь.
Вначале мне показалось, что кто-то дотронулся до моего лица кончиками длинных и нежных пальцев, осторожно провел рукой по моим волосам, но в ту же минуту я ощутил на ладонях и на голове первые капли воды и понял, что это дождь. А она все никак не могла ничего понять, все еще верила в то, что все происходящее совершается не на самом деле, а лишь в ее воображении, и только тогда, когда начался настоящий ливень, она закрыла глаза, подняла голову и, подставив лицо солнечным потокам воды, вся прижалась к дождю, словно старалась вобрать в себя всю его теплоту и нежность, вся посвятила себя дождю, вся отдавалась ему от макушки до пяток, вся восторгалась и наслаждалась, вся упивалась этой неожиданной, неземной, подаренной небом радостью.
Потом она открыла глаза, и я увидел в них и удивление и благодарность. Она опять молча разговаривала со мной, опять бессловесно объясняла мне что-то. Она молча благодарила меня за этот грибной дождь, которого ей так хотелось, но в который она не верила и который все-таки пришел к ней. Она устало наклонила набок голову, взяла мою руку, прижала мои пальцы к своей щеке, и снова закрыла глаза, и снова вся озарилась изнутри полнотой всех богатств и всех радостей жизни — утолением, пониманием, разделенностью.
Меня лихорадило. Я вроде бы и понимал то, что происходит с ней, и вроде бы не понимал. Я вроде бы и догадывался о том, что бушевало у нее внутри, и вроде бы не догадывался. Я осторожно высвободил свои пальцы из ее руки, взял ладонями ее лицо и приблизил ее к себе. Она не открывала глаз — она ждала от меня чего-то.
И тогда я прижался губами к ее лицу и тоже закрыл глаза, словно хотел увидеть ее не здесь, словно надеялся встретиться с ней не наяву, а где-то в другом мире, в другом измерении — далеком и нереальном.
По ее щекам текли круглые горошинки дождя, и я ощущал губами их пресный и безразличный привкус.
И вдруг дождь стал соленым…
Когда я почувствовал это, у меня в первую минуту мелькнула мысль о том, что раньше я никогда не слышал о том, что грибной дождь может быть соленым. Но тут же я отодвинулся от нее и понял, что это не дождь…
Еще секунду назад я видел, как она до краев была переполнена огромным радостным удивлением, как из нее через край плескалось солнце. А сейчас… Но что же произошло? Что могло случиться за эти несколько секунд? Что?..
Я не выпускал из своих рук ее лицо. Я пристально вглядывался в ее закрытые глаза.
В ней утихала какая-то молниеносно вспыхнувшая буря, в глубине ее существа разбивались о берег и успокаивались последние волны мгновенно пролетевшего над ней урагана.
Я не заметил, сколько прошло времени. Она кончила плакать так же, как и начала, — не уронив ни единого звука. Она открыла глаза и внимательно посмотрела на меня. И не было теперь на ее лице ни растерянности, ни беззащитности. Она что-то соображала, чему-то подводила итоги. Она опять что-то поняла до конца, опять укрепилась в каких-то своих, недоступных моему разуму женских выводах.
Она отвела взгляд чуть в сторону, и глаза ее снова сделались сосредоточенно-невидящими. Но теперь я уже не замечал в них ни страха, ни жалобы, ни просьбы. Она что-то решила, на чем-то остановилась. Она смотрела куда-то в сторону и вниз, но глаза ее были опрокинуты вовнутрь. Она уже ничего не рассказывала мне даже молча, она просто молча молчала. Она всматривалась в глубину своего женского естества, как всматриваются в песчаный откос морского берега, после того как с него уходят волны, и что-то видела там — очевидно, то, что увидеть была должна, как бы ни хотелось ей этого.
И она снова, уже в который раз за сегодняшний день удивила меня. Она была женщиной — молодой, неопытной, вводящей свой резерв в действие еще не сознательно, а только интуитивно, но тем не менее женщиной. Она не могла оставаться рациональной слишком долго, и на ее лицо снова вернулась улыбка. Но это опять была какая-то незнакомая мне, только что найденная улыбка, опять я увидел на ее лице совершенно новое, неизвестное мне выражение.
Сначала она все еще продолжала всматриваться в глубину своего естества, глаза ее все еще были опущены вниз, но вся она уже как-то потеплела и посветлела и стала похожа на солнечный луч, упавший на далекую воду, когда самого солнца пока не видно — для вас оно пока за облаками, — а река впереди или озеро уже приняли его и отразили в вашу сторону серебристым отблеском неярких искр.

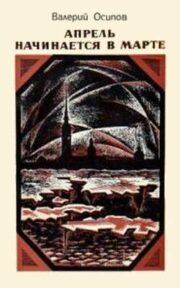
"Серебристый грибной дождь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Серебристый грибной дождь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Серебристый грибной дождь" друзьям в соцсетях.