Кроме того, наша пылкость подтачивала твои силы. Усталость затуманивала мысли. Твои речи становились тусклыми и вялыми, и это приводило в отчаяние тех, кто некогда восхищался их выразительностью и оригинальностью. Поскольку у тебя не было больше ни времени, ни желания готовить новые лекции, ты довольствовался повторением старых, не уснащая их даже новым комментарием.
Воцарилось уныние. Хор твоих удрученных учеников выдвигал суровые и болезненные упреки. Тебя останавливали на улице, прося вернуться к блестящим лекциям прошлых лет. Кое-кто лицемерно выражал беспокойство по поводу болезни, несомненно тайно грызущей тебя… Твои ученики решались оспаривать твои мнения, коллеги держали тебя в стороне от своих дискуссий.
Вокруг нашей восторженной четы сплеталась опасная сеть молвы.
А нам и дела не было!
В день, когда один из твоих друзей подошел к тебе со словами: «Ради всего святого, скажи, что стало с великим Абеляром и его вдохновением?», ты рассмеялся ему в лицо и вернулся пересказать мне этот эпизод, показавшийся тебе забавным. Мы смеялись, как невинные дети, каковыми уже не были, а должны были бы содрогнуться. Это было первое ворчание грома, предвещавшее грозу.
В то время, когда все в квартале и городе, в провинции и в самой стране воспевали либо осуждали нашу любовь, тот единственный человек, от которого зависели мы оба, все еще ничего не знал. Его неведение было залогом нашего спасения. Мы должны были подумать об этом и действовать соответственно. Но мы никогда об этом не думали. Любовь околдовала нас.
Все же однажды Небо послало мне серьезное предупреждение. В тот день ты задержался на званом обеде у каноников, а мы пригласили к ужину кузину Фюльбера Бьетрикс Тифож. Ты ее почти не знал. Это была маленькая смуглая женщина, лет пятидесяти, чья худощавость граничила с худосочностью. Она гордилась тонкостью своей талии, нимало не подозревая, что ее худоба вызывает в семье пересуды. Муж-виноторговец, скончавшись, оставил ей состояние, и она жила в полном довольстве в собственном доме, который велела построить, что любопытно, не на острове, а на другой стороне реки, неподалеку от Гран-Шатле. Она утверждала, что город будет расти вдоль Сент-Антуанской дороги, и я полагаю, жизнь теперь подтверждает ее правоту.
Не умея встречать победы скромно, она тем больше любила быть правой.
Помню, во время обеда она несколько раз пристально и не без любопытства взглядывала на меня своими птичьими глазками, в которых поблескивала искра недоброжелательства. Зная, что снисходительность не была ее главной добродетелью и совершенно безразличная к ее мнениям, я даже не насторожилась. Вдруг раздался ее пронзительный голос. Мы как раз ели заливное. Дядя извлек из ларца с пряностями, ключ от которого всегда носил при себе, унцию индийской соли и унцию корицы и старательно смешивал их с куриным мясом и тертым миндалем своего любимого блюда.
— Так стало быть, кузен, вы думаете лишь о том, чтобы жить у себя в доме в свое удовольствие?
Не отвлекаясь от просторной оловянной чаши, которую он придерживал за ручку, Фюльбер в знак очевидности приподнял плечо.
— Жить в свое удовольствие не запрещено, насколько мне известно, — сказал он, с одобрительной гримасой пробуя смесь. — Грех лишь предаваться чревоугодию или обжорству.
Он подал служанке знак немедля разливать по кубкам настойку его рецепта — там главенствовали имбирь, мускатный орех и мед.
— Чревоугодие можно понимать по-разному, — заявила госпожа Тифож с кислой улыбкой.
Дядя расправил торс, мощный, как башня замка Вовер.
— Что вы хотите сказать, голубушка?
Он был известен своей подозрительностью и щепетильностью во всем, что близко или отдаленно затрагивало семейную честь. Видя его нахмуренные брови, Бьетрикс скривилась.
— Постойте, друг мой, — сказала она, приподняв ручку, отбеленную ежедневным втиранием мази на молоке ослицы, — она мне сообщила рецепт, — постойте! Речь совершенно не об этих невинных лакомствах, которые я ценю так же, как и вы, если не больше. Вот уж нет! Я имею в виду другие аппетиты…
При этих словах ее взгляд скользнул по мне. Я молчала.
— Что вы на это скажете, Элоиза?
Я спокойно глядела на нее.
— Ничего, кузина.
Она сощурила глаза, выпуклые и выцветшие, как бывает у птицы.
— Для юной особы, которая берет так много уроков, да еще у столь известного учителя, вы не очень-то красноречивы, душа моя.
Я разглядывала ее не без любопытства. Беспричинная и столь примитивная злоба таит в себе некую закваску, вызывающую мой интерес.
— Если угодно, я изложу вам последнюю теорию универсалий, которую мы обсуждали…
— Нет нужды в философии, чтобы вести иные беседы, — настаивала она упрямо. — Говорят, вы чудесно ладите с мессиром Абеляром…
— В самом деле прекрасно, — подтвердила я, ничуть не теряя спокойствия. — Он из наиученейших.
Моя уверенность ей не понравилась. Глаза Бьетрикс сузились еще больше.
— В городе много говорят о ваших общих вкусах, — намекнула она, пригубив вино с травами. — Поскольку мы родственницы, я даже чувствую себя обязанной пересказать вам некоторые малоприятные слухи…
Дядя с такой силой опустил ладони на скатерть, что орехи с изюмом, выложенные горкой на блюдо в центре стола, покатились на пол.
— Чтоб я этой нелепой клеветы больше не слышал! — приказал он громовым голосом. — Я такие слова уже слышал. Так что б это были последние. Мэтр Абеляр и Элоиза выше всяких подозрений. Целомудрие одного и чистота другой не подлежат обсуждению. Я ясно выразился, Бьетрикс?
Госпожа Тифож поджала губы, секунду поколебалась и наконец, взяв айвового мармелада, решилась заговорить о другом.
Что до меня, я разглядывала дядю и размышляла. Ярость, с которой он всецело поднялся на нашу защиту, обнаружила такое простодушие, пристрастность и ослепление и в то же время такое абсолютное доверие, что обещала стать страшной в день, когда обернется против нас.
Я знала, насколько Фюльбер, — слабый по натуре человек, несмотря на облик Геркулеса, — дорожил доставшейся ему энергичной внешностью. Малейшее проявление малодушия подорвало бы его авторитет в глазах окружения. Такая перспектива должна была быть для его тщеславия непереносимой. Позже я поняла, что главным в характере дяди и была эта низкая форма гордыни. Ради славы, из самолюбия, он превыше всего дорожил репутацией человека с твердым характером. Впоследствии он жестоко продемонстрировал, до какой крайности мог дойти, когда считал себя одураченным. Увы! он был из тех, кто не может смириться с мыслью, что его обманули!
Если однажды ему доведется узнать правду о наших отношениях и он обнаружит, что осмеян, он будет страдать вдвойне: во-первых, в своей тайной гордыне, и во-вторых, в своих семейных амбициях. Чтобы спасти лицо, ему понадобится показать себя столь же беспощадным, сколь снисходительным он был прежде. Нежность, которую он на свой манер мне выказывал, не сослужит мне при таких обстоятельствах никакой службы. Она лишь сделает его еще более чувствительным к обиде. Всякий знает, что обманутая привязанность усиливает обиду и побуждает к злобе.
Я понимала это. Глядя, как в его руках дровосека разлетается скорлупа грецких орехов, я вспоминала о приступах его гнева. В то же время страха я не испытывала никакого. Уверенность, в которой я жила, делала меня неуязвимой. Заставить меня страдать могло единственное существо в мире: ты! Другие не могли даже испугать меня.
Я спокойно окончила ужин, омыла руки в серебряной чаше с душистой водой, которую поднесла мне служанка, и вытерла недрогнувшие пальцы льняным полотенцем. Была зима, в очаге пылало жаркое пламя. Я устроилась под колпаком камина, рядом с таким же зябким, как я, котом, урчавшим от удовольствия у моих ног. Вечер завершился мирно. Дядя играл с кузиной в шахматы. Я пряла.
Поздно вечером, вернувшись, ты пришел в мою комнату. Свернувшись калачиком под меховыми одеялами, я уже не думала о случае за ужином. Лишь позже, когда мы лежали, умиротворенные, в объятиях друг друга, я вспомнила о нем. Ты рассказывал о трапезе, которую возглавлял тем вечером и где тебе пришлось выслушивать упреки.
— Я не свободен от самого себя, — констатировал ты с горечью. — Моя слава стала мне обузой. Моим друзьям кажется непостижимым, даже вредным, что я могу желать для себя жизни вне книг и вне школы. Они дерзнули намекнуть при мне на нашу связь. Конечно, это были лишь намеки, но еще немного и наше собрание обратилось бы в ссору. Это ли не отвратительно?
Я признала, что вмешательство злых языков в нашу частную жизнь неприятно, но что делать? Я не воспринимала эту угрозу трагически. В самом деле, ничто не могло лишить красок мою радость, разрушить мое упоение. Ты знаешь — наша любовь всегда была для меня высшим благом, а все прочее рядом с ней становилось неважным. Ни страх, ни тем более угрызения совести не имели над ней власти. Мир, простиравшийся за пределами твоих объятий, не интересовал и не привлекал меня больше.
Твой рассказ, воспоминания о суровых словах Бьетрикс и частые предостережения Сибиллы, терзавшейся за меня беспокойством, словно жужжали вокруг моего счастья, как стая надоедливых мух. Но одного твоего жеста бывало довольно, чтобы я о них больше не думала. Это не была наивность: я понимала, что опасность серьезна. Нет, то были отстраненность и равнодушие.
Итак, меня все более явные угрозы не тревожили, а ты, со своей стороны, предпочел ими пренебречь.
Так шли наши самые прекрасные дни, самые сладостные месяцы.
Но и самые ослепленные существа в конце концов обретают зрение, а то, что известно всем, не может вечно оставаться в тайне.
Наша тайна открылась дяде самым глупым образом. Сибилла заболела. Приступ лихорадки свалил ее в постель. В течение некоторого времени мне пришлось довольствоваться услугами одной из горничных, столь же хитрой, сколь и глупой. Ты, должно быть, ее даже не заметил. Она довольно сильно хромала, и при взгляде на ее ожесточенное лицо всегда казалось, что ею владеют какие-то темные мысли. Хоть прошло много времени, — да и что теперь, — я все равно, вспоминая об этой девушке, чувствую горечь. Несчастное создание… Ее, как и всех, кто меня обидел, я должна сегодня простить от всего сердца. Я должна. Но поверь, это не легко…

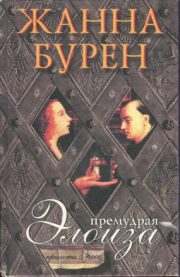
"Премудрая Элоиза" отзывы
Отзывы читателей о книге "Премудрая Элоиза". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Премудрая Элоиза" друзьям в соцсетях.