Благодаря маковому порошку ты приходил много раз. Мы отпраздновали — помнишь? — годовщину нашей первой встречи неистовой ночью, когда мне казалось, что я умру от пылкости твоих ласк.
Наш чердак стал местом всех наслаждений, и мои самые острые воспоминания связаны с его запахом пыли и ночи.
Мы не осмеливались зажигать свеч. Только звезды, мерцавшие через отверстие, которое мы проделали в кровле, сдвинув несколько черепиц, освещали наши утехи. Лунное сияние скользило иногда по нашему ложу и омывало бледным светом наши обнаженные тела. Голубой луч заставлял вспыхивать жемчужным блеском твои зубы и зрачки. Видишь, я ничего не забыла. Даже ту грозовую ночь, когда ты обладал мной под дождем, в ритме раскатов грома…
Господи! Мы были опьянены друг другом. Господи! Надо, чтобы ты простил нам эти крайности обожания, знаки нашей любви. Так надо, Господи! Ты не позволил им длиться долго. Ты заставил нас искупить их, но за то, что Ты дал нам их, Господи, я благодарю Тебя!
Часы наших встреч на чердаке были сочтены. Мы предвидели, что так будет. Никогда не говоря об этом, мы этого ожидали.
Так что однажды утром, на заре, когда Фюльбер застал нас соединенными настолько, насколько возможно, мы не были удивлены. Только разочарованы. Каким кратким было наше блаженство! Кто же предупредил дядю? Кто выследил нас? Кто предостерег его насчет любимого напитка с имбирем? Кто привел в наше убежище?
Я все еще не знаю этого и ничего не сделала, чтобы узнать впоследствии. Не так уж это было важно. Судьба всегда найдет посредника.
Итак, Фюльбер воздвигся перед нами, как Юпитер громовержец. Громовым голосом он приказал двум сопровождавшим его лакеям схватить тебя и вышвырнуть на улицу в чем был. Экзекуция свершилась быстро и без лишних слов. Старик, несомненно, понял, что от криков толку нет. Его неумолимость напугала меня больше, чем прежние проклятия. На сей раз я не смогла сдержать перед ним слез.
Затем он с таким презрением наблюдал за моим уходом, что в течение некоторого времени я задыхалась от стыда. Не столько за себя, Пьер, сколько за тебя, чье унижение разделяла. Я знала твою гордость — и гордость оправданную. Постыдный способ, каким тебя вторично изгнали из нашего дома, сами обстоятельства этого удаления должны были быть для тебя непереносимы.
В моих глазах никто и ничто не имело власти подорвать верховенство нашей страсти. Я ставила ее выше чужого мнения. Но для тебя это было не так, ибо тебе нужно было защищать репутацию, куда более видную, чем моя. Я понимала твою точку зрения и через тебя ощущала жгучую боль нашего публичного унижения. Благодарение Богу, никто не разгласил, насколько я знаю, того, что произошло у нас в доме. Ты смог продолжить преподавание, как обычно, не столкнувшись с оскорблениями.
Однако мы оказались разлученными без всякой надежды на встречу. Для пущей надежности дядя решил держать меня постоянно взаперти. Он дошел до того, что требовал готовить себе еду и напитки отдельно, не переставая подозрительно посматривать на меня во время трапез. Уроки старого больного каноника также прекратились. Новому слуге с угрюмой миной было поручено следить за мной днем и ночью. По ночам он устраивался спать в коридоре под моей дверью, едва я уходила в свою комнату.
В таких условиях нечего было и думать, чтобы ты вновь приходил тайно. Подобное безумие было немыслимо. Да и будь оно возможно, предупредить тебя я не смогла бы. Ведь Сибиллу от меня удалили, отослали на кухню. Надо мной сомкнулась сеть запретов.
Итак, мы были обречены. Однако я не позволяла себе впадать в уныние. Во мне утверждалась сила, более могучая, чем боль. Я необъяснимым образом чувствовала, что еще не случилось ничего непоправимого. Безграничная надежда жила во мне. Была ли то слепота? Или, скорее, начатки нового инстинкта, который исподволь пробуждался в самой глубине моего существа.
15 мая 1164
Служба повечерия закончилась, как положено, на склоне дня. Настал час, когда монахиням надлежало отойти ко сну, не зажигая свечей, при последних отблесках сумерек.
Но предстоящая ночь не была обычной ночью. Близкая кончина матери-аббатисы ни для кого в монастыре уже не была тайной. Чтобы помочь ей в эти последние часы, ее дочери не лягут спать и проведут время сна в молитве за отходящую душу.
Собравшись в самой старой молельне, заложенной Абеляром и затем достроенной руками его учениц, бенедектинки Параклета, облаченные в знак покаяния в черные накидки, на коленях творили молитву. Некоторые простерлись ниц. Иные взывали к Богу, крестом сложив руки на груди. Вся жизнь опустевшего в тот час монастыря сосредоточилась, казалось, вокруг алтаря, у подножия которого покоился основатель, мессир Пьер.
Неподалеку, в тесных стенах больницы, пять женских фигур склонились над постелью умирающей. Настоятельница, зная любовь к простоте и отрешенности у той, что уже присутствовала среди них лишь наполовину, старалась во время этого последнего бдения избежать всякой торжественности. Кроме сестры Марг и ее самой, в круг молящихся были допущены лишь наставница послушниц мать Эрмелина и ее сестра-близнец госпожа Аделаида, одна из первых покровительниц Параклета. Супруга благородного Гало, сердечная и здравомыслящая госпожа Аделаида была, бесспорно, единственным другом аббатисы за пределами монастырской ограды. Она встретила Элоизу при ее появлении и в начале тяжких трудов в уединенном уголке Шампани и никогда впоследствии не переставала поддерживать ее — как своей дружбой, так и своей лептой.
Преклонив колени возле ложа, она присоединила теперь свои молитвы к молитвам сестры. Из-под крахмального чепца виднелись лишь ее седые волосы и склоненный в горести широкий лоб, прорезанный морщинами.
Если бы умирающая открыла на миг глаза, которые упрямо держала закрытыми, погрузившись в свои мысли, она, несомненно, была бы счастлива увидеть в последний раз перед своей кончиной столь верное лицо.
Пятая женщина, получившая дозволение провести ночь у одра преподобнейшей матери, держалась немного поодаль.
Ее никто не знал. Она прибыла после вечерни с рекомендацией Реймсского епископа. И ее наряд, и доставившие ее носилки — все указывало на зажиточность. Впечатление подкрепляли сдержанность и элегантность ее манер. Вероятно, то была богатая горожанка, и привела ее в Параклет слава о набожности и мудрости Элоизы. Она назвалась госпожой Геньеврой и просила, чтобы ее допустили участвовать в бдении.
— Я проехала много лье, добираясь сюда, — объяснила она настоятельнице, — и прошу вас позволить мне помолиться за упокой вашей августейшей матери. Я столько о ней слышала…
Всякий гость священен. На просьбу госпожи Геньевры согласились легко. Ее тотчас разместили в одной из келий, отведенных для высоких гостей, и разрешили прийти помолиться возле умирающей, если ей того захочется.
Накинув на голову край плаща, скрепленного на груди брошкой из чеканного золота, она застыла в неподвижности. Под тенью темно-красной плотной шелковой ткани угадывались когда-то прекрасные, но отмеченные временем черты, проницательные глаза и рот с резкими складками в уголках полных губ. Ее пальцы перебирали янтарные четки, и она казалась погруженной в молитву.
Внезапно дыхание умирающей участилось. Чувствовалось, каких усилий стоил ей каждый глоток воздуха. Ее грудь судорожно вздымалась, в горле слышались хрипы.
— Нельзя ли что-то сделать, сестра Марг? Если не спасти, то хоть как-то помочь ей?
Мать Агнесса повернулась к сестре-сиделке. Боль читалась на ее серьезном лице.
— Она отказывается пить мой эликсир, — простонала сестра Марг. — Я не могу заставлять ее силой!
Мать Агнесса вздохнула. Она знала силу воли аббатисы и догадывалась, в чем причина ее отказа.
«Смерть ей желанна, — подумала она с покорностью. — Желая ее, она ничего не сделает, чтобы отдалить ее приход. Вот так, Боже праведный, воля Твоя впервые совпадает с ее собственной!»
Госпожа Геньевра подалась вперед, чтобы лучше видеть происходящее. Жадный интерес блестел в ее взгляде.
«Элоиза вот-вот скончается! В ее лице уже нет ни кровинки! Я буду среди тех, кто сможет сказать: я присутствовала при ее конце. Как странно! Я смогу описать отцу агонию женщины, чья судьба навеки связана с судьбой Абеляра. Каким бы старым ни был отец, ему будет интересно. Все, что напоминает о его ненависти к регенту Школ Парижа, об их долгих стычках, оживляет его угасающий ум. Разве Элоиза не остается, при всех своих обязанностях аббатисы, при всей славе, которую она здесь снискала, верной и после его смерти супругой этого философа, осужденного сначала Суассонским, а затем и Сансским собором? Она так и не отреклась — ни от него, ни от их любви. Она отдалась ему без всякой меры и стыдливости, безраздельно. И вся ее сегодняшняя набожность ничего не изменит! Что же был это за человек, если так всецело покорил ученейшую из наших женщин? Отец и друзья отца всегда описывали его как чудовище гордыни, эгоиста, заботившегося лишь о собственном удовольствии и славе. Но старые женщины, что когда-то знали его, к нему снисходительны. Когда им доводится говорить о нем, их потускневшие глаза затуманивает тоска по былому. Кем же был в самом деле мессир Абеляр, ненавидимый тобой, отец мой Альберик, и твоим товарищем Лотульфом Ломбардским, и Росцелином, смешанный с грязью самим Бернаром Клервосским и многими другими, но взятый под защиту и почитаемый Фульком Дейским, графом Тибо Шампанским, аббатом Клюни Достопочтенным Пьером?»
Госпожа Геньевра сменила позу. Она была уже немолода, и тряская дорога ее утомила.
Возбуждение, овладевшее ею, когда от проходящего паломника она узнала о близкой кончине Элоизы, заставило ее забыть о болезнях и, не раздумывая, пуститься в путь, оставив богатый дом и мужа-ювелира, чтобы лично видеть смерть женщины, для многих уже ставшей наполовину легендой.

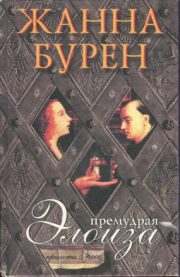
"Премудрая Элоиза" отзывы
Отзывы читателей о книге "Премудрая Элоиза". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Премудрая Элоиза" друзьям в соцсетях.