– Не надо, – сказала Машенька. – Я хочу, чтоб его с ним похоронили. Это ничего не нарушит?
Пристав задумался. Казак и его усы пристально, порознь и едва ли не лукаво разглядывали Машеньку.
– Наверное, нет, – нерешительно сказал наконец пристав. – Их казенным образом хоронить будут, после следствия… Но там… Вера Артемьевна Михайлова…
– Вера Михайлова желает после окончания следственных мероприятий забрать тело Никанора, беглого каторжника и бывшего камердинера Дубравина, и похоронить его самостоятельно, избавив тем казну от расходов. И даже, насколько я понимаю, согласна за то приплатить лицам, от которых данное решение зависит… – четко разъяснил жене Опалинский.
– Так пусть ее, если по закону можно, – сказала Машенька, испытывая внезапный приступ раздражения. Ну отчего эта Вера всегда оказывается быстрее и решительнее ее?
Она тоже хотела бы сама и по-христиански похоронить Митю, отдать ему хотя бы этот долг. Но как об этом сказать? Чем объяснить? И так, этот портрет… Что, кстати, с ним теперь делать? Бросить в печь? Какая жуткая ситуация… И почему, кстати, эта Вера никогда не находит нужным кому-нибудь что-нибудь объяснять, а просто делает так, как считает нужным?!
– Что будет теперь с этим домом? Двором? Вообще всей усадьбой? – спросила Машенька.
– Не решено еще, – пробормотал пристав. Столкнувшись с непредвиденными им сложностями психического порядка (портрет хозяйки приисков в разбойничьем гнезде, местная промышленница и полюбовница «самоедского короля» тайги, желающая непременно забрать тело беглого каторжника и т. п.), он явно пасовал перед ними.
– Обители какой-нибудь отдать. Самое богоугодное дело вышло бы. Праведные люди отмолили бы грехи от места, – послышался негромкий голос от двери.
Машенька обернулась вместе со всеми и увидела очень высокую фигуру, закутанную в черные одежды. Худощавое, прорезанное морщинами лицо с глубокими, горящими темным огнем глазами показалось знакомым. Повспоминав несколько мгновений, она вспомнила.
– Сестра Евдокия!
– Я.
– Как вы здесь? Откуда? Столько лет… С вами тогда еще была… Такая румяная, пригожая…
– Ирина, – равнодушно кивнула странница. – Умерла от кишечной болезни. Тому уж… лет пять будет…
– Выйдемте со мной наружу. Мне душно… – быстро сказала Машенька.
– Маша, может быть?… – начал Дмитрий Михайлович.
– Нет, оставь меня.
На мостках, вдающихся в озеро, с краю выцветшей доски бурело странное, неправильной формы пятно. Машенька сразу догадалась, что это, но не хотела о том думать, встала подальше, впрочем, взгляд все равно притягивался.
Евдокия легко, почти по-молодому подоткнула черное платье, уселась на ступеньках, спускающихся к воде.
– Вы мне тогда сказали: «иди в любовь!» Помните? – без предисловий начала Машенька. – А что ж вышло?
– Помню. А что ж вышло? – без любопытства отзеркалила странница.
Что ж вышло? Машенька пыталась подобрать слова, ей казалось, что она много лет ждала этого момента: выговорится кому-то почти постороннему и равнодушному, но в то же время почти и участнику событий. Казалось, дай срок и место, и речь польется свободным, ничем неудержимым потоком. Но слова не находились. Впрочем, оставались чувства.
У нее было такое чувство, словно у нее украли будущее. Оставили прииски, семью, все прочее. НО все это – уже никогда не будет освещено светом любви, светом извечной игры между мужчиной и женщиной. Почему? Бог весть. Дело не в годах и даже не в погибшем Мите. Для нее все кончилось, в сущности, не начавшись…
– Не надо было мне…
– Не надо, – сразу же согласилась Евдокия. – На лжи не построишь счастье.
Кому она солгала?! Машенька хотела возмутиться, закричать, затопать ногами, но не стала этого делать, потому что уже знала ответ. Самой себе, и другого ответа нет и быть не может.
– Ты поняла так, как тебе было удобно, – продолжала между тем Евдокия. – «Иди в любовь!» Коли решила, так и надо было туда идти. И его за собой вести. В любовь, а не в ложь, понимаешь ли разницу, дурочка? Открыться всем, назвать имя, найти, вызвать из тайги того, который теперь здесь мертвым лежит, восстановить в правах…
– Но ведь Сережу бы на каторгу за то отправили, в острог!
– Ну и что? А ты – за ним. В острог! В тюрьму! В любовь! А ты как полагала? В мягкой постели все? Так, милая, не бывает! Чего ж, вместе пережили бы все и очистились от всего. Чего и бояться-то было? Он же у тебя не убивец, не душегуб, не разбойник, смошенничал просто по случаю. Не так бы много ему и дали. А уж с твоими-то деньгами и поддержкой… А вот испугалась, и получилась вам тюрьма на двоих, да на всю жизнь… Помнишь, как я тебе целиком-то говорила: «Кто ушел в любовь, тот уж назад не вернется»? А что ты в пути с дороги сбилась, так в том не моя, а твоя собственная вина… Моей, впрочем, и без того хватает…
В словах Евдокии была справедливость, но не добро. Оттого Машенька и не заплакала. Прошла мимо старухи молча, не глядя, высоко подняв голову. Так и шла по ухоженному двору, ничего не видя вокруг, пока почти грудь в грудь не столкнулась с Верой Михайловой.
– Здравствуйте, Марья Ивановна!
– Здравствуйте, Вера Артемьевна!
Слова Евдокии еще стучали в висках, хотелось обвинить в случившемся и, особенно, в неслучившемся хоть кого. Оттого сначала вырвалось, а уж потом подумалось.
– Вера! Вы же от Софи все знали про Сержа. Отчего молчали столько лет, не донесли? Вы ж меня терпеть не можете, а я – вас. А тут такая возможность разом все уничтожить…
(«Господи, зачем я ее спрашиваю?! Да еще так откровенно! Что она подумать может? Что сделать?»)
– Софья Павловна просила молчать. Ради вас, не ради него. Говорила: пусть Машенька сама решит, никому мешаться невместно.
– И вы по ее слову молчали столько лет?!
– Конечно. А что ж тут удивительного? Trahit sua quemque voluptas (всякого влечет своя страсть).
– Вы… вы надо мною издеваетесь?!
– Да нет, с чего вы взяли? Мы с вами нынче в одном положении. Зачем же мне?…
– В каком это положении? Что вы имеете в виду? – подозрительно спросила Машенька.
– В конце бабской истории, что ж еще? Вы ведь портрет видали, – не спрашивая, утвердила Вера. – Вот то, что упустили. И я. Не упустила, но… Оба там лежат. В будущем много чего будет, но того – уже нет… – Машенька ощутила пронзительный озноб от того, что Вера будто с листа читала ее мысли. – Вам лучше, чем мне. На вас четыре судьбы вперед завязаны. У меня двое пока, да и то… Родная кровь – большое дело, как ни крути…
– Отчего же – четыре? – помертвевшими губами спросила Машенька, подумав почему-то о своих четырех беременностях.
– Один – ваш Шура, да трое брата детей. Кто ж, кроме вас, их учить да на ноги поднимать станет?
Машеньке стало неприятно, что Вера говорит о ее судьбе, как о чем-то раз и навсегда решенном. Она-то мечется, мучается, а этой твердокаменной Вере – все ясно. И про себя, и про нее, Машу…
– Почему это я должна?…
– Да уж должны…
От Вериной усмешки курица могла взбеситься.
– Я вас ненавижу!
– Ненавидите? – с ленивым удивлением переспросила Вера. – Ну надо же. А мне до вас и дела нету… Quod non opus est, asse carum est (в чем нет нужды, тому цена – медяк).
Едва ли не впервые в жизни Машеньке хотелось ударить, да что там – убить человека.
Само собой, она не стала ронять себя – сдержалась. Обожгла, как надеялась, взглядом, и пошла прочь, стараясь ступать ровно, по ниточке, как учила когда-то Софи. Уже отойдя, не выдержала, оглянулась незаметно, через плечо. Вера отгрызала от ногтя заусенец и задумчиво смотрела куда-то в озерную даль.
Выводок синичек-лазоревок быстро и сноровисто подбирал крошки от засохшего и рассыпавшегося пирога. Отчего-то люди ушли, бросив хорошую еду, которую обычно едят сами. Двое оставшихся людей не шевелились, но маленькие синички все равно осторожничали, косили бусинными глазами. Мать-лазоревка людей не боялась. Тем более, что оба были ей знакомы. Первого она видела уже давно, когда сама была слетком с ярким, еще не выцветшим оперением. Второй охранял под елкой ее гнездо. Почему же они теперь лежат здесь вместе и смотрят в небо? Что они там увидели? Почему не встают и не разговаривают между собой?
Лазоревка еще немного подумала, склоняя аккуратную головку то на один, то на другой бок, а потом позвала детей и велела им уходить, улетать отсюда вслед за ней. Маленькие синички были недовольны, потому что крошки еще оставались, но привычно последовали за матерью. Осенью в тайге много еды, а здесь… Наверное, мать-синичка права, и что-то тут нехорошо. Она больше их жила на свете, и ей виднее…
Глава 27
Варвара споро шла на север по едва заметной тропе. Солнце недавно взошло, но в тайгу попадали только отдельные лучики. На толстых осенних паутинах висели иголки и сверкающие капельки воды. Привычным глазом художника Варвара запоминала особо красивые узоры.
За спиной Варвары висела тяжелая походная котомка. Больше половины содержимого заветного сундучка перекочевало в нее. Остальное осталось на месте, в захоронке у расщепленной сосны. Если из замыслов Варвары ничего не выйдет, она вернется в родные края, когда все успокоится и забудется, и воспользуется оставшимися ценностями. В той же котомке лежала красная тетрадь. Варвара прекрасно знала, зачем она несет ее с собой. Когда она прибудет в Петербург, ей, Варваре, дикой остячке из тайги, даже с деньгами будет нужна помощь, чтобы разобраться, что там к чему в этой столице. Варвара найдет Софи Домогатскую. Софи нельзя заинтересовать золотом и самоцветами, но вот тетрадь с историей инженера Измайлова заинтересует ее наверняка. Ведь она копит человеческие судьбы также, как Варвара копит красивые узоры и драгоценные камни.
Никто не будет искать ее здесь. Осенью никто не идет на север. Даже серые гуси летят на юг, вслед за уходящим летом. Завтра Варвара сядет в обтянутую кожей лодку и поплывет на север. Быстро-быстро. Она самоедка и умеет ходить по бурной воде и небольшим порогам. Через большие пороги она проведет лодку на бечеве или перенесет на спине. Может быть, она успеет попасть на «Улыбку Моря». Сигурд Свенсен возьмет ее с собой. Варвара сумеет его уговорить. Благодаря Черному Атаману она знает, что нравится белым людям. В конце концов, у нее есть деньги, и она просто заплатит ему за проезд.

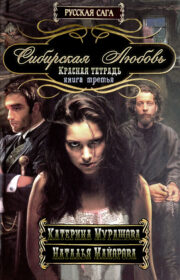
"Красная тетрадь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Красная тетрадь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Красная тетрадь" друзьям в соцсетях.