– Возможно, да. Речь идет о том, что каждый из нас всю жизнь пишет свою красную тетрадь, даже если она не существует в реальности. А окружающие люди, те, кто встречает нас на своем пути, кто нас любит или ненавидит, пытаются ее прочесть. Иногда им удается угадать, иногда получается совсем ерунда, как в случае с Матвеем Александровичем. Его ведь, наверное, никто, кроме Веры Михайловой, не понимал…
– Еще Софи. Софи Домогатская. Она не понимала, но как-то по-звериному чувствовала его. Могла предугадывать его поступки, даже немного управлять… Кстати. Скажите же мне, наконец: вы знали Софи в Петербурге? Вы как-то всегда так неопределенно отверчивались…
Я подумал: отчего я должен хранить чужие тайны, которые мне, к тому же, никто не поручал? Домогатская и ее судьба здесь – в числе тех самых тетрадей, если не сказать, как уже было сказано – всеобщее наваждение. Почему бы и мне не вписать в эту летопись свой абзац, тем более, что любезную хозяйку это непременно позабавит, да и впоследствии даст егорьевцам немало пищи для сплетен.
– Я лично не имел чести знать Софью Павловну, – сказал я. – Но мой дядя, Андрей Кондратьевич Измайлов, который фактически вырастил меня, он знал ее.
– И что же? – Машенька подвинулась на сиденье вперед, умостилась на самом краешке и отчего-то вдруг уцепилась рукой за трость, до того праздно прислоненную к боковине комода.
– Мой дядюшка – из числа петербургских промышленников. Он тесно и много лет сотрудничал с неким Тумановым. Туманов был птицей покрупнее, но, как бы это сказать… более сомнительной, что ли? Кроме фабрик, банка, верфи и прочих, вполне промышленных вещей и заведений, ему принадлежал, к примеру, один из самых модных в Петербурге игорных домов, с прилагающимся к нему борделем. Сам он вылез своими силами откуда-то из зловонной петербургской клоаки, и методами достижения преуспеяния никогда не гнушался. При том талантлив был, по отзывам дяди, чертовски. Вот именно это деловое чутье, которое, по слухам, и вашему отцу было присуще… Женщин и романов у этой несомненно демонической фигуры всегда насчитывалось больше, чем ему, по видимому, было надо…
– И что же – Софи? – жадно спросила Машенька.
– А вы еще не догадались? Софи, по слухам, познакомилась с ним при самых диких, но романтических обстоятельствах. Кто-то куда-то стрелял, кого-то ранили, кого-то убили… Потом они несколько раз сходились и расходились. От их скандальной связи целый сезон лихорадило весь петербургский свет. В конце концов, по словам дяди, она его уничтожила.
– Софи уничтожила Туманова? Как это? Почему?
– Просто выпила его, как стакан вина. Кто-то из конкурентов или отвергнутых поклонников Софи сжег игорный дом. Туманов бросил все и бежал за границу. Там искал смерти, и, по слухам, погиб где-то в горах. Не то в Грузии, не то в Армении. Дядя до сих пор жалеет о нем. Говорит, что такого компаньона у него больше никогда не будет…
– А Софи, значит…
– А Софи по мотивам пережитого написала роман, который имел успех не меньший, чем «Сибирская любовь». А может быть, и больший, так как страсти в нем получились более зрелые и откровенные, а сюжет более прихотливый. Еще до того, как вы знаете, она спокойненько вышла замуж за своего давнего жениха и родила ребенка…
– Боже мой… Но, честно говоря, что-то подобное я и предполагала. Не очень-то мне и верилось в ту пастораль, о которой со слов Веры рассказывала тетка Марфа. Софи была просто обречена на подобную историю…
– Увы! Обреченным в этой истории вышел Туманов.
– Да, да, конечно… Софи просто берет живую человеческую судьбу и превращает ее в роман. Как это… пикантно, – с какой-то злобной мечтательностью заметила Машенька. – Право, в этом есть что-то даже мистическое. Мой муж… Конечно! Как это раньше не пришло мне в голову! Он похож на брошенный автором литературный персонаж, о котором забыли и который никому более неинтересен. Он потерял даже свое имя…
– Простите, – возразил я. – Но насколько мне известно, имя он потерял вовсе не посредством усилий Софи Домогатской…
– Конечно… конечно… но… Вы теперь все знаете. Вы… донесете на него?
Глагол, который она выбрала, заставил меня вздрогнуть так сильно, что донышко чашки громко и неприлично ударило о блюдце. Черт возьми! Вот задача из области психической жизни: может ли боятся обвинения в воровстве человек, который ни разу не украл? Вроде бы, согласно логике, нет. Но… В конечном итоге я разозлился на Марью Ивановну. Почему это я должен чувствовать себя виноватым в давнем мошенничестве ее мужа?!
– Нет! Я не собираюсь ни на кого доносить! – резко сказал я. – Это ваши дела. Разбирайтесь с ними сами!
Марья Ивановна облегченно вздохнула и тут же отвлеклась от затронутой темы, возвращаясь к предыдущей. Софи и более близкий для нее территориально персонаж – Вера Михайлова.
«Андрей Андреевич, скажите мне. Что такого необыкновенного в этой сумасбродной девице и ее бывшей служанке, бывшей крепостной девке? Почему такие разные люди буквально сходят от них с ума, готовы жизнь кинуть к их ногам?»
«Всего лишь подлинность и бескомпромиссность страстей, милостивая государыня. Всего лишь. Они не торгуются и не взвешивают чувства, и потому напоминают людям о давно ушедших или никогда не бывших временах – временах мифа.»
Мне видно было, как она проживает историю Софи Домогатской, и свою собственную фантазию, додумывая неназванные мною подробности. Потом, по-видимому, примеряет ее на себя. Тускловатые обыкновенно глаза хозяйки приисков засветились волнительным голубым светом. Верхняя губа задвигалась, как у жующего кролика. Белокурые локоны, словно сами собой, полезли из-под накидки. Очевидно: меня уже было не надо, так как процесс пошел сам собою. Довольный достигнутым, я откланялся.
Во дворе встретил Петю Гордеева, как всегда сильно нетрезвого, с неизменным ягдташем через плечо. Петя доброжелательно улыбнулся мне, помахал рукой и, не без затруднений обойдя меня (он так долго примеривался, с какой стороны это лучше сделать, что мне даже пришлось остановиться), скрылся в собственном доме. На мгновение я вдруг позавидовал ему. Живет в самом центре егорьевских интриг и тайн и, насколько я знаю, умудрился ни в чем не замараться, никого не предать. И способ для того выбрал наипростейший, надежный, без всяких изысков. Любит, любим, свои радости и горести несет не без достоинства даже, никого ни в чем не виня. Писем Софи Домогатской наверняка не пишет. «Предстанет перед Господом пьяненький, но чистый», – мысленно сострил я.
До сумерек так и посмеивался в усы и радовался собственной ловкости и смыслености.
Когда небо чуть зазеленело, раздался стук в дверь. Открыл и никого не увидел. Опустил глаза и только тогда разглядел Зайчонка. Осмотрелся кругом, но старших брата и сестры не было видно. Девочка между тем протянула мне обрывок бумаги и убежала.
Уже в комнате, надев очки, с трудом прочел корявые, наползающие друг на друга буквы: «ИЗМАИЛ ЕЖАЙ НА РАЗБИТОЕ СЕРЦЕ ДО РАЗВИЛКИ ПАТОМ НАПРАВА ГДЕ ТРИ СОСНЫ ИЗ АДНАВО КОРНЯ ИДИ В ЛЕС ВСЁ УВИДИШ».
По всем правилам и опыту жизни я должен был принять записку за детскую игру и, усмехнувшись ребячьим забавам, тут же забыть обо всем. Но… отчего-то сразу просто-таки могильный холод змеей прополз у меня по спине. Внутри железным прутом заледенел страх. Дрожа губами и пальцами, я пошел седлать коня. Если бы был верующим, непременно бормотал бы охранительную молитву. Хотя уже откуда-то знал: не поможет!
У трех сросшихся сосен я спешился и хотел вести коня в поводу, благо, лес позволял. Однако, всегда смирный коняшка храпел, упирался, словно чуял что-то недоброе.
Привязав его к сосне, я медленно пошел один, не имея ни малейшего представления о том, что ищу, и не в силах избавиться от холодного, липкого страха.
Нашел, как и обещал мой корреспондент, быстро.
Гавриил Давыдов лежал лицом вниз, придавленный упавшим на него деревом. Упало оно отнюдь не само. Последние сомнения оставили меня, когда в быстро сгущавшихся сумерках я прочел плакат, оставленный на теле жертвы.
«НЕ АРХАНГЕЛ НО ПРОВАКАТОР»
Я не госпожа Домогатская, и литературные красоты и прочие метафоры в описании чувств мне недоступны. Когда я все это увидел, осмотрел и понял, что Гавриил умер отнюдь не сразу, меня просто вывернуло наизнанку.
От мысли, что все это устроили дети (!!!), хотелось выть и грызть землю.
Но изменить уже ничего было нельзя, и надо было как-то действовать дальше. Пытаясь таким чудовищным способом реабилитировать мое доброе имя, ребята, разумеется, не сообразили, что одновременно с головой выдают сами себя. Поэтому я первым делом вынул в стороне кусок мха, развел небольшой костер и сжег бумагу-улику. Потом уложил мох на место и заровнял края. Пусть лучше егорьевская (и прочая «передовая») общественность навсегда считает меня доносчиком и подлецом, чем окажется лицом к лицу с таким вот, поистине кошмарным, преступлением.
Потом я еще раз, сдерживая продолжающиеся желудочные спазмы, придирчиво осмотрел место происшествия. Если полиция не будет слишком въедлива, то вполне может сойти за несчастный случай. Интересно, чем они его сюда заманили? Что пообещали рассказать? Показать? Этого я уже никогда не узнаю. Гавриил Давыдов… Теперь, задним числом я и сам припоминаю всякие подозрительные мелочи в его словах и поведении, на которые должен был бы обратить внимание, но не обратил… Но как же они-то догадались, что он работает на жандармов? Как сумели выследить и вообще понять, что происходит? Ведь все считают их слабоумными. А они? Маленькие смышленые чудовища, воюющие на моей стороне… Боже мой, ну чем я все это заслужил?! Какой такой грех висит на мне, что даже сбежать мне и то не удалось?… Выходит, не зря бедняга Гавриил боялся их. Чувствовал что-то?

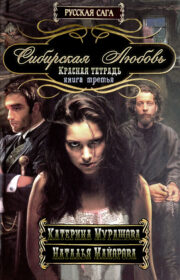
"Красная тетрадь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Красная тетрадь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Красная тетрадь" друзьям в соцсетях.