– Спина человека, который вовсе не вынесет неправды и неволи, – тут же сказала она издалека.
«Напомни себе, что Вера Михайлова – совершенно не в твоем вкусе, – издевательски посоветовал себе Измайлов. – Напомни для того хотя бы, чтобы не потерять ее уважения, которое она явно за что-то к тебе испытывает. И для того, чтобы не упасть теперь же у ее ног сто первой жертвой ее змеиной, завораживающей привлекательности…»
– Ваши дети в моем доме, – сказал он. – Вы хотите, чтобы я их прислал, или сами съездите за ними?
– Пусть еще немного побудут у вас, если вам не в тягость, – неожиданно попросила Вера. – У меня осталось еще одно дело… Матвей и Соня не обременят вас, они не очень шалят, и все сумеют, если вам надо будет помочь. Подать, принести…
Она говорила о детях с равнодушной приязнью, как о хорошо обученной прислуге. Измайлов смутился и поморщился. Наваждение минуло.
– Поедемте, вам, должно быть, интересно взглянуть будет, – едва ли не елейным тоном предложил Семен Саввич Овсянников. Елейность не только не скрывала, но и подчеркивала скрытое в глубине возбуждение и, пожалуй что, раздражение. Таким многозначным тоном дети годов трех-четырех сообщают родителям о том, что обкакались.
Дмитрий Михайлович Опалинский нахмурился, но промолчал.
– У вас с Дубравиным знакомство давнее вышло, – продолжал исправник. – Так что заодно и… попрощаетесь, что ли… Так что ж, едете?
– Еду! – твердо произнес Опалинский и выпрямился со сдержанным неопределенным чувством, с которым, вероятно, встречают кончину малоприятной и чудаковатой тетушки, от которой ожидают наследства.
– Так я вас жду…
Перед выездом Дмитрий Михайлович заглянул к жене. Машенька сидела за роялем, искала успокоения в музыке. Но – тщетно. Оказалось к тому же, что за долгое неупотребление куда-то затерялась едва ли не половина нот. При том, в их числе, самые любимые – романсы Верстовского и Гурилева.
– Я еду с исправником в тайгу, на разбойничью заимку.
– Я – с тобой!
– Не надо! – вскрикнул Опалинский. – Там… там женщине не место. Там бой был. Трупы… кровь…
– Я должна поехать! – упрямо сказала Машенька, вставая и с резким стуком захлопывая крышку рояля. – Ты меня не переубедишь. Не возьмешь, так я сама… буду по тайге плутать, пока не найду…
– Маша, что ты говоришь? Что за глупости тебе в голову приходят?!
– Должна… должна… должна, – Марья Ивановна, покачиваясь, прошла вдоль анфилады комнат, и с каждым шагом ее силуэт расплывался, словно пропадая в неясной дымке.
На мгновение время словно повернулось вспять, и вдруг Опалинскому увиделось давнее: юная, белокурая, сияющая Машенька, покачиваясь, словно лодочка в волну, бежит к нему через двор, раскинув руки… «Ми-итя!» – как и тогда, имя царапнуло, привычной болью раскровянило давний рубец….
«Да какой я тебе Митя!!! – хотелось закричать мучительно и горько. – Я – Сережа, Сережа, Сережа!»
Но так они договорились когда-то. Чтобы никто даже случайно не услышал, не сумел догадать…
– Митя, я готова, едем!
– Хорошо, едем, если тебе так хочется. Потом пожалеешь, вспомнишь, что я предупреждал.
– Пустое. Едем скорее.
– Ну что ж, Евдокия, ухожу я… Прощаться давай, – Варвара улыбнулась своей всегдашней широкой улыбкой, словно раковину раскрывавшей ее темное, скуластое лицо. Ровные зубы блеснули в раковине улыбки голубоватым дорогим жемчугом.
– Куда же пойдешь?
– Далеко-о, ой, далеко-о, – мечтательно пропела Варвара, приподнявшись на носки и заведя кисти за голову. – Сереженьки-то, бедняжки, нету теперь, так ничего меня тут и не держит…
– Оборотись к отцу, помирись с ним, – устало сказала Евдокия, подходя к низкому оконцу и тревожно выглядывая в него. – Ты ему родная дочь, он обиду позабудет, тебя спрячет до времени. Что ж за дело для девки, в тайге, ровно дикому зверю жить…
– Да мне, тетка Евдокия, тайга с малых лет – дом родной… Да и не буду я в ней жить, уеду в страны дальние, дивные…
– Искать тебя будут, как атаманову полюбовницу, чтобы к допросу представить. Агнешка, себя выгородить желая, такого приставу да жандармам про тебя напела… Чего было и чего не было… Чуть ли не главным советником ты у него выходишь…
– Пускай ее, – равнодушно усмехнулась Варвара. – Наша вера говорит: клевета горбом на клеветника ложится. Так что быть Агнешке горбатой… А я по трактам и не пойду. Искать станут в одной стороне, а я – как раз в другую двинусь… Скажи лучше, что ты сама-то надумала? Да что с Гликерией-то станет? Гляжу вон, лежит-не дышит. Не померла ли часом?
– Господь с тобой, Варвара! Спит она. Я ее сон-травой напоила.
– А потом чего ж?
– Как очнется, отправимся мы с ней странницами в Ирбитский монастырь. Там у меня настоятельница знакомая, примет нас. Станем жить, утруждаться да молиться за всех убиенных. А дальше, как очухается Гликерия от горя, так ей самой решать: то ли в Петербург возвертаться, то ли в обители век доживать. Тут я ей не советчица…
– А ты, ты сама, Евдокия? Отчего по свету ходишь, нигде приюта не имеешь?
– Грех на мне, Варвара. Страшный грех. А более тебе знать не надобно.
– Ну не надобно, так не надобно, – Варвара пожала плечами (подобно большинству людей своего племени, она вовсе не страдала пустым, не имеющим практического выхода любопытством). – Вот, просьба у меня к тебе… Не обессудь, более попросить как бы и некого…
– Какая ж? Говори, если сумею, выполню…
– Крест мне в руки попал. Случайно, можно сказать. Вещь, может, и не слишком дорогая, но памятная. Самой мне в Егорьевске появляться невместно. Потому прошу: передай хозяину, если сумеешь.
– А кто ж хозяин?
– Измайлов Андрей Андреевич, Опалинских новый инженер. Да он тут был у нас, на заимке-то, может, помнишь?… Вот крестик, возьми…
Евдокия протянула исчерченную морщинами ладонь, приняла крестик и цепочку и вдруг, словно ожегшись, выронила его на земляной пол, выложенный редко уложенными плашками.
Варвара споро нагнулась, подняла крест.
– Выскользнул, видать, – пробормотала она. – Бери, бери.
Евдокия стояла, застыв, словно соляной столб, который при том был раньше чьей-то женой (о этой удивительной истории Варваре когда-то рассказывала Машенька Гордеева).
Осознав произведенное крестиком впечатление, Варвара искренне изумилась.
– Ты чего это, тетка Евдокия? Никак языка лишилась?
– И… Измайлов, это тот, который в озере купался? – как будто бы и вправду с трудом ворочая языком, спросила Евдокия, хищной рукой схватила крестик и мгновенно, словно замерзающего птенца, спрятала его за пазуху.
– Ну да, да, тот самый. Узнаешь его? – Варваре уже надоели чужие тайны и чужие чувства. Она имела свои и хотела, расплатившись на свой манер с долгами, заняться ими.
Евдокия молча кивнула. Варваре отчего-то вдруг помстилось, что крест к инженеру нипочем не вернется. Но это ей уже было все равно.
Звуки были даже не нервными, чего, в принципе, можно было бы ожидать от рояля. Они были дикими и разорванными в клочки. Как будто кто-то, злой и мятежный, рвал их на кусочки и судорожными горстями бросал в открытое окно. При том Машенька сразу узнала, что именно играли.
Четырнадцатая соната-фантазия до-минор. Моцарт.
Эти ноты тоже исчезли.
Но кто же? Кто?! Ведь Митя мертв…
На мгновение позабыв обо всем другом, Машенька вырвала руку из руки мужа, легко взбежала на высокое крыльцо, как-то совсем не обратив внимания на попытку охранника-казака заступить ей дорогу.
Шла на звук, как слепая. И первое, что увидела в комнате – портрет. Рояль звучал словно сам собой. Только чуть после разглядела у клавиатуры невысокую рыжую девочку с вдохновенным, почти безумным лицом… Все сразу встало на место.
– Лиза! Как ты смогла?! Как научилась?!!
Вопль души. Ответа не ждала, его не могло быть. Но он неожиданно прозвучал в гулкой тишине. Хрипловатый, неживой, какой-то механический голос. Только что отзвучавшая музыка была живее во много раз.
– Шурочка объяснил ноты. Давно. Потом… Мы купили у него… Я слышу пальцами… Вот так… – Лисенок беззвучно пошевелила пальцами над клавиатурой. – Много раз. Очень много. Повторить. Ноты, и ветер, и лес, и небо со звездами, и звезды в реке. Все звучит. Ты не позволяла. Черный Атаман позволил мне. И учил. И еще зимой. Матюша вынимал стекло и пускал в собрание. Волчонок учился читать и писать. А я…
– Господи! – прошептала Машенька. – Слышу пальцами…
Она вспомнила, как играла Лисенок. На мгновение показалось, что заглянула в клокочущую бездонную бездну. Марья Ивановна невольно отшатнулась, как от края чего-то ужасного. Лисенок правильно истолковала это движение и куда-то почти мгновенно исчезла. Словно растаял морок. Машенька обхватила руками вмиг озябшие плечи.
В комнату, топоча сапогами, вошли Опалинский, полицейский пристав, высокий и усатый казачий офицер и еще кто-то. Машенька видела их всех словно в голубоватой дымке.
– Ну, вот это да, господа! Вот это да! Что же это за петрушка выходит, позвольте спросить? – бодро пророкотал есаул, указывая на портрет толстым пальцем.
– Что вы, собственно, имеете в виду? – близоруко прищурившись, спросил пристав. – То, что разбойник Дубравин увлекался искусством? Но почему бы нет?
– Да не в этом же дело! – с досадой воскликнул усач. Усы его быстро и завораживающе шевелились и, казалось, жили отдельной от хозяина жизнью. – Неужели вы не видите?! Вот же, перед вами – оригинал!
– Что?! Вы имеете в виду мою жену? – едва ли не с ноткой угрозы спросил Дмитрий Михайлович.
– Что? – прошептала Машенька.
И сразу все всем стало очевидно. И удивительно вправду, как не заметили того раньше. Портрет на стене был портретом юной Машеньки Гордеевой, отчего-то одетой в костюм европейской принцессы.
– У него на груди был найден медальон, – негромко сказал пристав. – Я полагал, портрет рисован с него. Теперь… Теперь я уж и не знаю… Я могу распорядиться принесть…

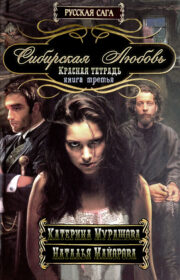
"Красная тетрадь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Красная тетрадь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Красная тетрадь" друзьям в соцсетях.