Я оглянулась. Флер говорила правду: ворон принес плохую весть и улетел. Отпали последние сомнения: предчувствие меня не обмануло. Спокойные солнечные дни для нас закончились. Маскараду конец.
2. 4 июля 1610
Мы отослали труппу Лазарильо в город. Циркачи уехали обиженные, точно их в чем-то обвинили. Только оставлять их в монастыре было не след: у нас ведь покойница. Из приязни к бродячим артистам всего света я сама отнесла им провиант — сено для лошадей, хлеб, козий сыр в золе, доброго вина — и пожелала счастливого пути.
Прощаясь, Лазарильо окинул меня пристальным взглядом.
— Знакомой ты кажешься, любезная сестра. Не встречались мы где?
— Вряд ли. Я здесь сызмальства.
Лазарильо пожал плечами.
— Слишком много городов перевидал, вот и мнится, что лица у людей одинаковые.
«Знакомое чувство», — подумала я, но промолчала.
— Тяжелые нынче времена, любезная сестра, помяни нас в молитвах.
— Всенепременно.
Мать настоятельница лежала на своей узкой кровати. Клянусь, при жизни она не выглядела такой маленькой и хрупкой! Ей закрыли глаза, а сестра Альфонсина уже сменила ее quichenotte[2] на вимпл, который старушка носить отказывалась.
«Кишнот нас очень выручал, — рассказывала она. — Kiss not, kiss not! — твердили мы английским солдатам, а для пущей убедительности надевали чепцы с жесткими лентами. Кто знает, — в глазах старушки вспыхивал лукавый огонек, — вдруг английские мародеры тут не перевелись? Как мне сохранить свою непорочность?»
По словам Альфонсины, мать настоятельница лишилась чувств, когда копала картошку в поле, а минуту спустя умерла.
«Хорошая смерть, — подумала я. — Ни боли, ни священников, ни суеты пустой». Настоятельница прожила семьдесят три года — необычайно много! — а хрупкой была еще пять лет назад, когда я только появилась в монастыре. Именно она помогла мне стать своей, она принимала Флер… Снова накатила незваная гостья тоска. Настоятельница казалась мне бессмертной, эдаким столпом затворнической жизни. Сама доброта и простота, мать Мария бродила по картофельным полям в юбке и переднике — ни дать ни взять крестьянка.
Картошкой настоятельница гордилась. Земля здесь бедная, почти ничего не вырастишь, а ее картошка ценилась на материке и вместе с солью и маринованным солеросом помогала монастырю себя прокормить. Церковная десятина делала жизнь вполне терпимой даже для меня, свободолюбивой цыганки. В моем возрасте пора покончить с бурями и смятением странствий, тем паче в «Небесном театре» слез было не меньше, чем роз, голода больше, чем сытости, а коли вспомнить пропойц, сплетников и развратников… Но главное, сейчас у меня на руках Флер.
Одно из бесчисленных моих богохульств — непризнание греха. Мне, в грехе зачатой, надлежало произвести на свет свое дитя в скорбном покаянии и бросить средь диких холмов, как дочери моего народа издревле поступали с ненужным потомством. Однако Флер с первой минуты была мне не в тягость, а в радость. Ради нее я ношу красный крест бернардинок, ради нее тружусь на полях, а не танцую на канате. Ради нее посвящаю дни свои Господу, которого мало почитаю и еще меньше понимаю. Только с Флер жизнь мне теперь в усладу, а в монастыре как-никак безопасно. У меня есть сад, книги, сестры. Шестьдесят пять сестер, о такой большой и дружной семье я прежде не мечтала.
Я назвалась им вдовой. Так казалось проще всего: молодая богатая вдова, теперь еще на сносях, я бегу от кредиторов покойного супруга. Для пущей убедительности у меня имелись драгоценности, спасенные с разбитой в Эпинале повозки. Лицедейский опыт сослужил добрую службу: я легко убедила провинциалку-настоятельницу, которая нигде, кроме родных мест, не бывала. Со временем я поняла, что уловки мои напрасны. Мало кто из сестер ощущал призвание служить Господу. Связывали нас лишь потребность в уединении, недоверие к мужчинам да женская солидарность, которые перевешивали разницу в набожности и происхождении. Каждая из нас спасалась от незримых демонов, каждая хранила свои тайны.
Сестра Маргарита, тощая, как крысенок, вечно трясущаяся от нервных расстройств и тревог, приходит ко мне за ячменным отваром, дабы изгнать сны, в которых ее терзает огненнорукий мужчина. Я завариваю ей ромашку с валерианой, сдабриваю снадобье медом. Сама она ежедневно очищается соленой водой с касторовым маслом, но по лихорадочно блестящим глазам я вижу, что кошмар мучает ее до сих пор.
Полная краснолицая сестра Антуана с вечно жирными от готовки руками в четырнадцать лет произвела на свет мертвого младенца. Иные говорят, она убила свое дитя, иные клеймят ее отца, не совладавшего с гневом и стыдом. Но даже чувство вины не портит Антуане аппетит. У нее круглое апатичное лицо, трясущиеся складки на подбородке и живот колесом. Пироги и булки она прижимает к груди, как младенцев, и в полумраке порой не разберешь, кто от кого кормится.
Сестра Альфонсина белее мела, лишь на щеках по красному пятну. Порой она харкает кровью, а в нервном возбуждении находится постоянно. Кто-то сказал ей, что у хворых особый дар, здоровым недоступный. Теперь Альфонсина старательно напускает на себя таинственность и частенько видит дьявола в образе большой черной собаки.
Ну и Перетта: для всех — сестра Анна, а в душе навсегда Перетта. Дикарка, лет тринадцати или чуть старше, она не говорит ни слова. Прошлой осенью, в ноябре, нагой подобрали мы ее на берегу. Первые три дня она не прикасалась к еде и неподвижно сидела на полу кельи, уставившись в стену. Потом начались буйства — размазанный по полу кал, швыряние едой в сестер, которые за ней ухаживали, звериные крики. Одежду Перетта отвергала начисто, нагая вышагивала по ледяной келье, поминутно разражаясь дикими воплями, в которых звучали то гнев, то тоска, то ликование.
Сейчас иной примет Перетту за обычную девочку. В белой рясе послушницы она почти прелестна. Высоким птичьим голоском выводит она наши гимны, хоть и без слов, но самое раздолье ей в поле и в саду — швырнет вимпл на колючий куст, и ветер раздувает длинные юбки. Она по-прежнему не говорит. «С рождения, что ли, немая?» — гадают сестры. Глаза у Перетты с золотым ободком, волосы ей сбрили, чтобы избавить от вшей, и сейчас на голове топорщится светлый ежик. Перетта любит Флер, тоненько воркует с ней, ловкими умелыми ручками мастерит игрушки из тростника и прибрежных трав. Я тоже ей близкая подруга — Перетта охотно ходит со мной в поле и, мурлыча себе под нос, наблюдает, как я работаю.
Да, у меня снова есть семья. У каждой свои демоны, но все мы тут беглянки — Перетта, Антуана, Маргарита, Альфонсина, я, а еще чопорная Пьета, сплетница Бенедикт, лентяйка Томазина, белокурая Жермена с изуродованным лицом, беспокойная красотка Клемента, которая делит с ней ложе, и слабоумная Розамунда — потеряв память и силу грешить, она ближе к Богу, чем любая из нас.
Жизнь здесь легка или была легка покамест. Вдоволь вкусной еды, у каждой свое утешение — у Маргариты склянка и ежедневное очищение, у Антуаны — пироги с булками, а у меня Флер, которая рядом со мной и когда спит в кроватке, и на поле, и на молебнах. Кто-то скажет, вольготность такая пристала праздным селянкам, а не объединенным покаянием сестрам, но ведь монастырь наш на острове. Здесь своя жизнь, и даже Ле-Девэн по ту сторону пролива кажется другим миром. Раз в год на Таинство Евхаристии к нам приезжает священник, а епископа здесь в последний раз видели пятнадцать с лишним лет назад, когда короновали старого Генриха. С тех пор доброго короля закололи — именно Генрих приказал всем французам раз в неделю есть жареных кур, и стараниями сестры Антуаны этот приказ мы выполняли воистину ретиво, — а его наследник еще бегает в коротких штанишках.
Столько перемен! Я их побаиваюсь: горные реки внешнего мира не щадят никого. Пока вокруг смута, а над головой парят черные птицы несчастья, мне лучше здесь, с Флер.
Здесь мы в безопасности.
3. 7 июля 1610
Монастырь без настоятельницы. Страна без короля. Вот уже четыре дня живем мы в той же смуте, что вся Франция. Луи-Дьёдонне, Людовик Богоданный — красивое, сильное имя для ребенка, взошедшего на трон, залитый отцовской кровью. Можно подумать, само имя снимет проклятье или закроет людям глаза на бесчинства церкви и двора, на чрезмерные амбиции регентши Марии. Старый король был солдатом и мудрым правителем, при нем мы знали, чего ждать, а маленькому Луи всего восемь. Со дня гибели его отца не прошло и двух месяцев, а слухи уже поползли: де Сюлли, советник убиенного короля, смещен ради фаворита Марии Медичи. Конде вернулись. Не нужно быть провидицей, чтобы понять: времена грядут тяжелые. Прежде мы на Нуармутье не слишком об этом тревожились. Но нам, как и Франции, нужен надежный лидер, как и вся Франция, мы страшимся неизвестности.
Без матери настоятельницы мы плывем по течению, предоставленные сами себе, и ждем ответа на послание, отправленное епископу в Ренн. Обычная наша праздность омрачена неопределенностью. Тело настоятельницы в часовне, где горят свечи и курятся кадила, ибо лето в разгаре, а в недвижном воздухе смрад. С материка вестей нет, да мы знаем, что путь в Ренн занимает не менее четырех дней. Мы аки судно без кормчего, а кормчий нам нужен: праздность наша перерастает разумные границы. Мы почти не молимся, позабыли обязанности, и каждая предается своей утехе: Антуана — обжорству, Маргарита — питию, Альфонсина — наведению чистоты: снова и снова скребет она полы, ладони в крови, сил нет даже до кельи доползти, а щетку из дрожащих рук не выпускает. Одни сестры плачут безо всякой причины. Другие разыскали циркачей, которые остановились в деревне в двух лье от монастыря. Те сестры вернулись в дортуар поздно — среди ночи услыхала я смех, почуяла пряный запах вина и распаленной утехами плоти.

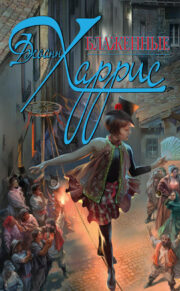
"Блаженные" отзывы
Отзывы читателей о книге "Блаженные". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Блаженные" друзьям в соцсетях.