Джоанн Харрис
Блаженные
Часть I. Жюльетта
1. 3 июля 1610
Все началось с бродячих артистов. Их семеро, шесть мужчин и девушка; она в блестках и рваном кружеве, они в шелку и перьях. На каждом маска и парик, лица напудрены и раскрашены — Арлекин, Скарамуш и длинноносый Чумной Доктор, скромница Изабель и распутник Жеронт. Босые ноги в дорожной пыли, зато ногти сверкают золотом, улыбки грубо намалеваны, а голоса так сладки и пронзительны, что у меня замирает сердце.
Незваные и нежданные, явились они в зеленой повозке с позолотой; на ее помятых боках еще читалась горделивая алая надпись:
«Всем известная труппа Лазарильо!
Трагедия и комедия!
Дикое зверье и чудеса!»
Вокруг надписи резвятся сатиры и нимфы, слоны и тигры, лиловые, розовые, малиновые. «Любимцы короля!» — намалевано чуть ниже кичливыми золотыми буквами.
В это мне верилось с трудом, хотя поговаривали, что у старика Анри простецкий вкус и изысканным трагедиям он предпочитает комедии-балеты и представления с диким зверьем. В день венчания короля я сама танцевала пред ним под строгим взглядом его любимой Марии. То был мой звездный час.
Труппа Лазарильо нам не чета, однако представление разбередило мне душу с силой, на которую посредственные лицедеи и надеяться не могли. Предчувствие ли тому виной или тоска по временам, когда мрачные шакалы инквизиции еще не запретили нам радоваться жизни, но, глядя на танец, на пестрые костюмы, задорно мелькающие под ярким солнцем, я словно видела знамена древних армий, горделиво шествующих по полю боя в знак неповиновения малодушным отступникам.
Надпись на повозке сулила дикое зверье и чудеса, а в труппе были только мартышка в красном жилете да небольшой черный медведь. Зато, кроме представления в масках, мы увидели пожирателя огня, акробатов, музыкантов и даже плясунью на канате. Восхищенная публика шумела, Флер смеялась, визжала от восторга, и сквозь рясу я ощущала ее порывистые объятия.
У плясуньи темные кудри и золотые браслеты на щиколотках. На наших глазах она прыгнула на канат, который держали Жеронт и Арлекин. Ударили в тамбурин — ее подбросили в воздух, она сделала сальто и приземлилась на канат так же ловко, как когда-то умела я. Нет, почти так же ловко, ведь нашу труппу именовали «Небесный театр», а меня Эйле, Крылатой, Небесной Плясуньей, Парящей Гарпией. В лучшие времена, стоило мне подняться на канат, публика охала и замирала — и изнеженные дамы, и их галантные кавалеры, и епископы, и торговцы, и придворные. Сам король бледнел и не сводил с меня глаз. До сих пор помню его лицо в обрамлении напудренных кудрей, его сияющие глаза и… шквал аплодисментов. Гордыня, конечно, грех, хотя я никогда не понимала почему. Кто-то скажет, что именно гордыня привела сюда меня, гордыня низвергла с прежних высот, хотя в самом конце я вознесусь еще выше. В Судный день я буду танцевать с ангелами, твердит сестра Маргарита, но ведь она, бедняжка, сумасшедшая. Измученная тиком, дрожащая, она превращает воду в вино неведомым снадобьем из склянки, которую держит под матрасом. Сестра Маргарита думает, мне ничего не известно. Но в нашем дортуаре перегородки совсем тонкие, тайну не сохранишь. Разве только мне удается.
Монастырь Святой Марии Морской находится в западной части острова Нуармутье. Несуразный, с деревянными пристройками по бокам и сзади и внутренним двором. Здесь я живу последние пять лет, прежде так долго нигде не задерживалась. Сейчас я сестра Августа, а как меня звали раньше — неважно, по крайней мере пока. Монастырь — единственное место, где можно отрешиться от прошлого. Только прошлое — хворь коварная, переносится и дыханием ветра, и звуками флейты, и ножками плясуньи. Спохватываюсь я, как всегда, поздно, но куда мне идти, если не вперед? Все началось с бродячих циркачей, а где и чем закончится?
После плясуньи вышли жонглеры с музыкантами, и сам Лазарильо объявил заключительный номер программы. По двору прокатился его трубный, как у бывалого актера, глас.
— А теперь, милостивые сестры, для назидания и удовольствия, для восторга и развлечения, всем известная труппа Лазарильо представит забавнейшую комедию нравов! — Для пущей выразительности Лазарильо остановился и сорвал с головы треуголку с перьями. — Прямо сейчас и только для вас «Любовь отшельника»!
Над головой пролетел ворон, черный вестник несчастья. По лицу скользнула его зловещая тень, и я сделала пальцами магический знак — «рогатку», чтобы прогнать беду: кш-ш, убирайся!
Не помогло. Ворон тяжело опустился на крышу колодца, и его желтые глаза дерзко блеснули. Труппа Лазарильо как ни в чем не бывало готовилась к выступлению. Ворон заговорщицки мне кивнул.
Кш-ш, убирайся! Однажды такой «рогаткой» моя мать прогнала целый рой диких пчел. Ворон же беззвучно раскрыл клюв и показал мне тонкий синеватый язык. Страшно захотелось швырнуть в него камнем, едва сдержалась.
Тем временем представление уже началось. Подлый священник возжелал молодую прелестницу. Та укрылась в монастыре, а ее возлюбленный, клоун, решил вызволить красавицу, переодевшись монахиней. Священник разоблачил их и поклялся: девушка достанется ему или никому на свете. Коварным планам помешала мартышка: она неожиданно прыгнула ему на голову, и влюбленные сбежали.
«Забавнейшая комедия» оказалась пресной и монотонной, лицедеи изнывали от жары. Плохи же их дела, раз к нам занесло. Еда и ночлег, большего в островном монастыре не получишь, а если порядки строгие, не получишь ничего. Видно, совсем солоно пришлось им на материке. Бродячим артистам сейчас нелегко. Зато Флер представление понравилось — она хлопала в ладоши и громко подбадривала верещащую мартышку. Рядом с ней стояла Перетта, самая юная из наших послушниц. Вихрастая, с выразительным личиком, она сама напоминала мартышку, а сейчас визжала от восхищения.
Действо заканчивалось: возлюбленные воссоединились, негодяя-священника разоблачили. От жары у меня закружилась голова, и на миг почудилось, что за спинами актеров от света прячется кто-то знакомый. Ошибки быть не могло: только он так держит голову, так стоит и отбрасывает такую тень. Я узнала его, хотя видела не дольше секунды: Ги Лемерль, мой черный вестник несчастья, мелькнул и исчез.
Все началось с бродячих циркачей, Лемерля и крылатого вестника несчастья. «Удача как горная река: то туда повернет, то сюда», — говорила моя мать. Может, пришла пора и нам повернуть, как поворачивается Земля и день сменяется мраком ночи, если верить еретикам. Может, и нет. Циркачи пели, плясали, изрыгали огонь из раскрашенных ртов, строили рожи, резвились, кувыркались, дурачились, под тамбурин и флейту махали ногами с блестящими золотом ногтями, а мне чудилось: на двор наползает мрак, накрывая черным крылом алые юбки, звенящий тамбурин, флейту, верещащую мартышку, шутовские костюмы, маски, Изабеллу и Скарамуша. Медленно совершается очередной поворот, неумолимо приближая наш конец…
От суеверия давно пора избавиться. Предзнаменования остались в другой жизни вместе с «Небесным театром». Только почему спустя все эти годы мне померещился Лемерль? К чему это? Наваждение прошло, действо тоже закончилось — потные циркачи кланялись и осыпали нас лепестками роз. И ночлег, и провизию они более чем заслужили.
Рядом со мной толстая сестра Антуана бьет в пухлые ладоши. От жары ее лицо покрылось красными пятнами. Я вдруг почувствовала и пыль в ноздрях, и резкий запах ее пота. Кто-то похлопал меня по спине — сестра Маргарита! На изможденном лице восторг и боль, от волнения приоткрылся рот, и дрожат губы. Как мерзко воняют потные тела! «Бра-аво!» — пронзительно, чуть ли не дико закричали сестры, стоящие у потрескавшихся от жары монастырских стен. Полуденный зной растопил сдержанность и чопорность, аплодисменты грянули с безумной силой. «Браво! Бис! Браво! Бис!»
Тут среди восторженных воплей я расслышала совершенно иной. «Наша мать Мария, она…» Безумные крики и жара задушили голос, но вот он снова вознесся над остальными.
Я оглянулась на голос и увидела сестру Альфонсину. Чахоточная монахиня стояла на верхней ступеньке лестницы, что вела в колокольню. Никто, кроме меня, на нее не смотрел. Труппа Лазарильо отвешивала последние поклоны — циркачи раздавали последние цветы и конфеты, пожиратель огня в последний раз изрыгнул пламя, мартышка сделала последнее сальто. У Арлекина потек грим, у Изабеллы, староватой и толстоватой для этого амплуа, помада размазалась до самых ушей.
Сестра Альфонсина все старалась перекричать монахинь. «Божья кара! — разобрала я. — Страшная кара!»
На лицах монахинь мелькнуло раздражение. Альфонсину хлебом не корми, только дай покаяться и епитимью исполнить.
— Господи, Альфонсина, ну что такое?
Та обвела нас мученическим взглядом и не скорбно, а скорее укоризненно объявила:
— Сестры, наша мать настоятельница мертва.
Воцарилась тишина. Растерянные циркачи смотрели виновато, понимая, что внезапно оказались не ко двору. Музыкант неловко опустил руку, и его тамбурин ответил резким звоном.
— Мертва?
Можно подумать, под нещадно палящим солнцем не умирают.
Альфонсина кивнула, а стоящая позади меня Маргарита тут же завела:
— Miserere nobis, miserere nobis…[1]
Перехватив изумленный взгляд Флер, я прижала ее к себе.
— Цирк кончился? — спросила она. — Обезьянка больше не спляшет?
— Боюсь, нет, — покачала головой я.
— Почему? Из-за черной птички?
Я испуганно заглянула ей в глаза. Пять лет, а все замечает! Глаза у Флер как кусочки неба — сегодня синие, завтра темно-лиловые, словно грозовая туча.
— Тут была черная птичка, — нетерпеливо пояснила она. — А сейчас ее нет.

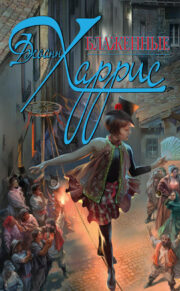
"Блаженные" отзывы
Отзывы читателей о книге "Блаженные". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Блаженные" друзьям в соцсетях.