— Но потом… потом я бы не спешил… я бы медлил, медлил, пока ты не взмолилась бы… и мои губы… твои губы… не отрывались бы…
Пока же не отрывались друг от друга только их глаза — распаленные взоры слились, как в поцелуе, но вдруг оба содрогнулись, точно при грохоте выстрела: рядом кто-то громко и грубо выругался.
Злющая горничная, девка из Мон-Нуара, вскочила на подножку кареты и теперь стояла, пригнувшись, точно кошка, готовая к прыжку, осыпая обоих отборной бранью.
Что и говорить, в моде у дам того времени были резкие и даже грубые манеры, но эта девка выражалась уж вовсе по-площадному, то есть настолько грязно, что Мария невольно заслонилась от нее ладонями.
А гасконец весело посмеивался, словно появление злобной девки было лишь удачным продолжением шутки.
— Venus en fureur [9]! — воскликнул он сквозь смех. Потом, увидев лицо Марии, добавил: — Нет, две разгневанные Венеры!
— L'aspic [10]! — прошипела Мария, отворачиваясь, но тут же вновь ощутила на своей руке его цепкие пальцы.
— Я был так увлечен беседой с тобою, гражданка, что не успел сообщить: именем французского народа мне предписано арестовать тебя!
— Арестовать?! — вскричала Мария — и ей эхом отозвалась девка:
— А-рес-то-вать?! Эту шлюху? Эту поганую аристо [11]? — И, высунувшись из кареты, она завопила: — Вы слышали, друзья?! Он хочет арестовать пособницу австриячки!.. Нет, братья свободы, не допустим этого! Не допустим!
И Мария ахнуть не успела, как ее вырвали из рук офицера, вытолкнули из кареты и бросили на дорогу. Девка уселась на нее верхом, вцепилась в распустившиеся волосы и закричала:
— Клянусь, она не доедет до тюрьмы! В петлю ее! A la lanterne [12]!
Словно темный туман окутал все вокруг, дыша смрадом немытых, разгоряченных тел.
— В петлю аристо! — раздавались дикие голос. — Повесить ее, повесить! A la lanterne!
— Опомнитесь, граждане! — вмешался наконец-то офицер. — У меня приказ Конвента. Это соучастница преступления, нам нужны ее показания…
Но в голосе офицера не было твердости, и мятежники не обратили никакого внимания на его слова, только девка, исступленно дергая Марию за волосы, выкрикнула:
— Показания?! На черта нужны ее показания, если булочник Капет [13] уже схвачен? Ее место у тетушки Луизы [14], но у той и так много поживы. Зачем ждать? Доставим себе удовольствие! В петлю ее! В петлю!
И снова на Марию накатилась тьма, ударяя по глазам отдельными просверками: разинутые в крике рты, связанный Данила, неловко привалившийся к боку кареты, а в глазах его — ужас; озабоченное лицо гасконца — он пытается остановить толпу, но люди, опьяненные жаждой крови, спорят, кричат, беснуются; девка, задрав юбку, скачет перед офицером, виляя голыми бедрами, визжит, хохочет, слова сказать не дает и вот уже все хохочут, и офицер тоже смеется, и наконец-то, махнув рукой, грубо хватает девку, лапает, целует… Он согласился, он сдался — и отдал им Марию.
Они повесили бы ее сию же минуту, но оказалось, что в спешке не захватили с собой веревки.
Мария немало прожила во Франции и знала, что французам, как никакому другому народу, свойственна врожденная склонность к беспорядку. Погнались вот за беглянкой, желая непременно ее повесить, — да забыли о веревке. Однако эта мысль — повесить, непременно повесить! — настолько овладела их взбудораженным сознанием, что никто даже не вспомнил о пистолетах. А что касается веревки — то сама мысль о хорошо намыленной, крепкой веревке до того прочно засела в их головы, что никто и не вспомнил о ременных гужах или поводьях, которые в палаческом деле — подспорье не из последних.
Словом, судьба подарила отсрочку: сгонять за веревкой в Мон-Нуар вызвалась девка (ее по иронии все той же насмешницы-судьбы звали Манон [15]), а без нее, словно она была тем кресалом, который распалял мужчин, они сделались посмирнее и, оставив в покое пленников, с упоением принялись грабить карету.
Вытащили сундуки, корзины, содрали бархатную и шелковистую обивку… Мария с Данилой встревоженно переглядывались, но поделать ничего не могли — им оставалось лишь взывать к Господу в глубине сердец своих. Разумеется, не о багаже были их тревоги, но пока, к счастью, никто из грабителей не орал истошно и торжествующе, не выскакивал на дорогу, прижав к груди заветную шкатулку. Наконец из разоренной кареты вылез последний крестьянин с пустыми руками и недовольным лицом. И надежда вновь осенила Марию своим крылом…
Корзины с припасами тотчас распаковали и невдалеке, на полянке, устроили пирушку. Мария и Данила снова переглянулись. Ну, если не теперь, то уж и никогда! Прикусив губу до крови, Мария сумела-таки вызвать на глаза подобие слезинок и закричала как могла жалобнее:
— Господин офицер! Во имя неба, выслушайте меня!
Офицер тоже направлялся к раскинутым скатертям, заваленным провизией. Досадливо оглянувшись на Марию, словно она была не той самой женщиной, к которой он только что отчаянно вожделел, он процедил сквозь зубы:
— Я ничего не могу сделать для вас, баронесса. Молитесь — пусть Бог дарует вам последнее утешение.
— О том я и прошу! — вскричала Мария, с такой силой заломив связанные руки, что от боли слезы хлынули из глаз ручьем. — Позвольте мне помолиться, как того требует моя вера! Мы, русские, — православные, и наше последнее обращение к Богу требует уединения и полумрака. Позвольте мне войти в карету, собраться с мыслями, вверить Господу душу мою…
В глазах гасконца вспыхнуло любопытство:
— Да, я что-то такое слышал. Вы, русские, — прямые потомки монголов и до сих пор остались идолопоклонниками. — Он задумчиво оглядел Марию. — Ну что ж, эту последнюю малость я могу вам позволить.
Видно было, что жалость робко постучалась в его сердце, но слишком много глаз было устремлено на них; вдобавок сотоварищи его уже ели, пили… Гасконец судорожно сглотнул, рывком поднял Марию и втолкнул ее в карету.
— Молитесь, — сказал он. — Молитесь, баронесса! — И прикрыл за нею повисшую на одной петле дверцу; шелковые шторы были сорваны, однако кожаная обтяжка пока осталась нетронутой.
Мария рухнула на колени, шепнула, зная, что Данила ее слышит: «Уповай на Господа!» — и с трепетом воззрилась на пол. Оказалось, что грабители облегчили ей задачу — иначе как со связанными руками отодрать обшивку, чтобы обнажить доски? А теперь ясно видна заветная планочка — чуть темнее других. Мария нажала на нее, чуть повела вперед — и в полутьме, пропахшей потными мужскими телами, потянуло легким, сладковатым дуновением из открывшегося тайника.
Какое счастье, что кинжал она положила сверху: обе руки не пролезли бы в узкую щель. Теперь же оставалось лишь подцепить его пальцами и укрепить в щели стоймя, чтобы перерезать веревку. Это оказалось легче задумать, чем осуществить, а время, чудилось, летит со свистом мимо, обжигая лицо!.. Но едва с рук Марии упала последняя петля, как что-то зашевелилось сзади.
Мария резко обернулась — так что волосы закрыли глаза. Сдула их нетерпеливо, но все равно — какой-то миг смотрела слепо, ничего не видя от ужаса. И даже не взором — всей похолодевшей кожей узнала: кузнец!
Сейчас он был совсем другой — это Мария тоже почуяла мгновенно. Так два зверя, сойдясь на узкой тропе, сразу чуют слабое место противника, и если осторожный хочет жить, он уходит. Но сейчас вся мрачная сила кузнеца осела в его чресла, и эта похоть была его слабостью. Он даже тайника не заметил! Одежда его была с готовностью раскрыта, и, увидев то, что предстало глазам ее, Мария с трудом подавила позывы тошноты.
— Какая наглость! — прошипела она, и эти слова на миг замедлили порыв насильника; Мария же поудобнее перехватила кинжал и повернулась.
Выражение тупого изумления и обиды, появившееся на лице кузнеца, едва не заставило ее расхохотаться; а ледяное, привычное прикосновение стали к ладони тотчас вернуло ей самообладание.
— Ну что? Желаете скрестить оружие? — прошептала она насмешливо, поигрывая кинжалом и глядя на кузнеца, чей боевой меч, только что бывший, так сказать, наизготовку, вдруг неудержимо начал опускаться; теперь от смеха просто невозможно было удержаться, так что Мария едва не пропустила мгновение, когда кузнец разинул рот, собираясь окликнуть сотоварищей.
В тесноте кареты метать кинжал было неудобно, и все же Мария попыталась. И тотчас с бульканьем хлынула кровь из горла кузнеца, и Мария, одолев отвращение, с силой дернула его за руку, чтобы он упал в карету, а не вывалился наружу. Вот был бы сюрприз его сообщникам!
Однако тяжелое кровоточащее тело навалилось на тайник, так что мороки прибавилось. У Марии подгибались колени, когда ей наконец-то удалось своротить мертвеца в сторону. Вдобавок за стеной постанывал Данила, все нудил под руку:
— Поспешите, матушка-барыня, ради Господа, ради Боженьки!
Так бы и сняла башмак, так бы и поколотила дурня! Кузнец-то влез в карету с противоположной дверцы, миновав Данилу, тому и невдомек было, чего там копошится барыня.
Брезгливо отерев кинжал о рубаху кузнеца, Мария поднесла острие к груди — и одним махом распорола себе платье до пояса. Опалило воспоминание о том, как дерзкий палец гасконца проделал тот же путь… О нет, подумала Мария, просто так она отсюда не уйдет, что бы потом ни случилось! Нужно отдать долг офицеру, и если удача сейчас перешла на ее сторону, то хоть за волосы, хоть силком, но Мария удержит при себе эту капризную даму еще хоть ненадолго!
Брат когда-то рассказывал ей, что гусар должен в две минуты одеться, оседлать лошадь и открыть огонь. Седлать и стрелять пора еще не настала, но Мария мгновенно содрала с себя платье и облачилась в крестьянскую рубашку и юбку с высоким корсажем. Грудь свободно заколыхалась — крестьянки ведь не носят корсетов, — и Мария потуже стянула рубаху у горла. Перекрестилась — и осторожно выглянула из кареты.

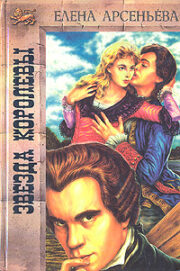
"Звезда королевы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Звезда королевы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Звезда королевы" друзьям в соцсетях.