Елена Арсеньева
Звезда королевы
Последствия любви непредсказуемы.
ПРОЛОГ
От Парижа до Марселя три дня пути в карете. Три дня!.. Но это — для других: более разумных, предусмотрительных, а главное — более удачливых. И подумать только: этот кузнец из Мон-Нуар [1], здоровенный детина, который завораживал взглядом лошадей, когда они бились и не давали подковать их, — он так перепугал Марию мрачным просверком исподлобья (словно и она была глупой, строптивой кобылкою, которую нужно подчинить своей воле), что путешественница отпрянула назад, в карету, и велела Дени поскорее погонять, решив, что уж лучше поискать по пути другого кузнеца, чем терпеть этот необъяснимый страх. Но демоны ужаса уже успели завладеть ее душою; да, наверное, настигли они и Дени (который, вообще-то, был просто старый, упрямый Данила). Чуть ли не впервые в жизни он не стал пререкаться с хозяйкою, а поворотил карету вновь на проезжую дорогу к Мон-Нуар, через который им надлежало проехать. А в этом городе, как известно, улицы вымощены маленькими, острыми булыжниками, чем-то похожими на груши. Человек, по ним идущий, напоминает подагрика, ну а уж лошадь со сбившейся подковою… Через пол-лье подковы слетели у трех лошадей враз, а четвертая ступала так, словно вот-вот готова была охрометь. Пришлось волей-неволей поворачивать.
Нет, Мария, все еще зачарованная смутной тяжестью в душе, не нашла в себе сил снова увидеть кузнеца: она сошла, чтобы переждать в гостинице, имевшей вполне благопристойный вид и поименованной «Bon Roi» — «Добрый король». Это-то название и расположило Марию к заведению, хотя в пору нынешнего кровавого revolte [2] звучало почти непристойно. И как же местные жители не сбили вывеску или хотя бы не изменили эпитет на вовсе противоположный, удивилась Мария; не иначе — так привыкли к этому названию, что даже перестали вникать в его смысл.
Как бы то ни было, «Bon Roi» оказался к Марии вовсе не добр. Данила необъяснимо задерживался: уже смерклось, а его все не было; поэтому Марии пришлось спросить ужин. На ужин подали полусырого и подгоревшего гуся, зажаренного на вертеле. На возмущение постоялицы отозвался хозяин, по гостеприимству и приветливости сравнимый только с кладбищенским сторожем. Он стал жаловаться на отсутствие припасов и хорошего повара, а в утешение посоветовал отведать старого бургундского, которое помнило еще его деда. Бургундское, как известно, не очень вкусно первый и второй год, но потом ничто не может с ним сравниться; однако через 12–15 лет оно начинает портиться, поэтому в достоинства столь древнего напитка верить не стоит. Хозяин же, судя по всему, верил, а главное, очень желал, чтобы поверила Мария. Она же только учтиво улыбалась в ответ. Пощипывая жесткое гусиное мясо, путешественница уговаривала себя, чтоб достало осторожности отмолчаться: горничная, смазливая, хоть и немытая девка, уже поглядывала на ее нарядное платье голодной волчицей… Мрачный городишко этот Мон-Нуар, и люди в нем мрачные, тоскливо думала Мария, до боли в сердце желая лишь одного: в сей же миг очутиться на палубе «Сокола», который ждал ее в Марселе, и чтобы ветер бил в паруса… вечно попутный ветер… и чтобы через все моря — домой, в российские пределы! Если бы еще получить весточку, что предприятие их удалось, что та, другая, карета, проследовавшая на север, добралась до места благополучно… Но никакого известия так скоро, конечно же, случиться не могло, разве что на «Соколе» Мария что-нибудь узнает.
Наконец-то появился Данила — с вытянутым от усталости и огорчения лицом, и Мария поняла, что прокисшее бургундское — еще не последняя досада нынешнего дня.
Так оно и оказалось. Двух лошадок подковали, а третьей в копыто забился осколок камня, который кузнец брался извлечь лишь завтра, при дневном свете.
Хочешь не хочешь, а в «Добром короле» предстояло ночевать.
Лицо Данилы еще более удлинилось, когда он увидал и отведал свою долю ужина. Чревобесием [3] тут и не пахло!
— Гусь — птица неудобная. Одного на жаркое мало, двух много, — пробормотал он себе в утешение и впился немолодыми своими зубами в птичье мясо.
Мария же направилась в предоставленные ей отдельные покои, как пышно поименовал хозяин убогую каморку, где ей предстояло провести ночь. Впрочем, Даниле не повезло получить даже lit а́ part — отдельную постель, несмотря на принадлежность к нынешнему как бы господствующему сословию: пришлось ночевать вместе с другими слугами на сеновале.
Мария отказалась от услуг неопрятной горничной; она мечтала о том, чтобы никогда больше ее не видеть. Однако ни утром, ни днем тронуться в путь не удалось. Кузнец не появлялся в кузне до самого полудня, а потом возился с лошадью до темна. Мария уже соглашалась оставить охромевшую и купить другую лошадь, да узнала, что продажных в городке нет. Не имелось таковых и во всей округе: все реквизированы народной полицией.
Повторный ночлег в «Добром короле» покоя не принес: за стенкою горничная шумно ублажала хозяина; и чуть рассвело, Мария была на ногах. Данила, слава Богу, уже возился с каретой, так что первый луч солнца еще не коснулся высокого шпиля ратуши, когда Мария вновь была в пути. Выезжая из проулка, где ютился «Bon Roi», она оглянулась — дернула же нелегкая! — и укололась о темный взор полуодетой горничной, свесившейся из окна вслед повозке знатной постоялицы. Ну и злобные же взгляды у них, в Мон-Нуар, подумала Мария, словно все они тут, вместе с городом своим, — и впрямь порождение Горы ночи. С этой минуты Мария не переставала ожидать от судьбы новой каверзы, которая вскоре и не замедлила случиться.
Ехали по отвратительной дороге — все спуски да подъемы. Обочь стояли хилые деревья с обрезанными наголо ради вязанки хвороста стволами. Навстречу тянулись длинные обозы из Прованса, а раза два-три огромные телеги с впряженными в них четверками лошадей чуть не разбили легкую карету. Данила уворачивался молча, с перекошенным лицом и стиснутыми зубами: при малейшем отпоре провансальские возницы — самые вспыльчивые и грубые на свете — охотно избили бы кнутами кучера богатого экипажа.
Мелькнул впереди объезд, Данила тотчас повернул — и через полчаса неровной, мучительно-тряской езды случилось вот что: карета жалобно запищала, потом закачалась, словно некий великан решил позабавиться и потрясти ее, — и вдруг села с хрустом на «брюхо», а Мария, падая с сиденья, успела увидеть в окно, как весело катится прочь колесо.
Через несколько минут, когда она выбралась из кареты и подошел, хромая, Данила, выяснилось, что укатились два колеса. Враз.
Какие только чудеса не случаются на дороге, — но чтобы сломались одновременно две железные чеки…
Убедившись, что барыня жива, невредима и даже не сильно лютует, Данила осмотрел место слома — и долго стоял остолбенелый, обнаружив явственные следы подпилов. Сделавший это даже не позаботился скрыть свою злокозненность! Мария, однако же, не очень удивилась: она ждала чего-то подобного; а вот Данила, тот совершенно ошалел — хватаясь то за одну, то за другую половинку сломанной чеки, он то и дело повторял:
— Mais pourquoi, pourquoi [4], черт меня задери?..
Здесь следует пояснить, что Данилу, дворового парикмахера, матушка дала среди прочих слуг Марии с собою, когда та уезжала из России. Куафер быстро привык носить французское платье разных цветов и резонерствовать по поводу и без повода, коверкая что свой родной, что чужой язык. В доме баронессы Корф старались говорить по-русски, но вполне чужеземного поветрия, конечно, оберечься не могли. Несмотря на привившуюся любовь к спорам, в душе Данила оставался тем же русским крепостным, что и прежде, так что нынешних безумствований французских не принимал, не понимал — и понимать не желал, называя революцию не иначе как «злобесием» и «некошным», то есть нестоящим, негодным делом; а потому сейчас он плюхнулся Марии в ноги, как отцы и деды его делывали, и заголосил по-старинному:
— Не вели казнить — вели миловать, Марья Валерьяновна! Завела меня сюда не злая моя воля, а чаробесие!
У Марии рука чесалась на старого куафера-кучера: зачем недосмотрел, зачем колеса не проверил?! — но без «чаробесия» тут и впрямь не обошлось, она и сама не сомневалась в этом, тем паче что Данила кучером лишь по нужде содеялся. Поэтому, оттолкнув его носком туфли, она велела распрягать лошадей, чтобы седлать их к верховой езде.
— Верхом! По такой-то задухе [5]?! — закудахтал Данила. — А добро ваше, а сундуки? Неужто бросим?!
— Ты что, вовсе обезумел? Узлов навяжем, навьючим на свободных лошадей! — Мария сердито скинула с плеч шарф: жара и впрямь подступала жестокая.
Конечно, милое дело — дождаться вечера, ехать по прохладе, но у марсельского причала нетерпеливо пританцовывает на зеленой волне «Сокол» — легкокрылый «Сокол», готовый улететь в родимую сторонку… Нет силы ждать до вечера!..
— Седлай, — велела Мария уже не столь сердито — видение корабля смягчило ее гнев.
Она направилась к карете: кроме узлов, что предстояло навязать, следовало забрать еще кое-что тайное и очень важное не только для нее. И тут Данила громко ахнул. Мария обернулась. Облако пыли клубилось по дороге совсем невдалеке; раздавался стук копыт, возбужденные окрики — к ним приближались всадники.
Первой мыслью было, что весело несется навстречу кавалькада охотников-дворян, но то была иллюзия, воспоминания о минувшем, с которым тотчас же пришлось расстаться: за плечами одного из всадников развевался трехцветный шарф офицера народной полиции.
— Приветствую тебя, гражданка! — весело закричал всадник, осадив коня. Лицо офицера было лукавое, смуглое, волевое — лицо гасконца. Он окинул Марию взглядом, который польстил бы любой, самой привередливой красавице, но следующие слова его тотчас разрушили очарование: — Вижу, тебя настигла беда в дороге, однако сочувствие выразить не могу: для нас это — большая подмога!

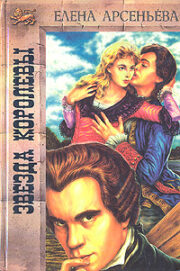
"Звезда королевы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Звезда королевы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Звезда королевы" друзьям в соцсетях.