И тут Мария увидела его отряд. Кроме нескольких солдат национальной гвардии и крестьян, там были и двое знакомых; узнав эти лица, она в гневе затрепетала. Пресловутый кузнец — все с тем же мрачным, гнетущим взглядом из-под насупленных бровей, — и злая красивая девка с полуобнаженной грудью и заткнутым за пояс пистолетом. Девка сидела верхом по-мужски, ветер, закидывавший вверх ее юбку, обнажал выше колен смуглые точеные ноги, на которых едва удерживались сабо — грубые башмаки из толстой кожи на деревянной подошве. Хотя выглядела она совсем иначе, чем вчера, Мария узнала ее тотчас: это была горничная из «Доброго короля»! И только теперь возник у Марии вопрос, который, конечно же, следовало бы задать себе сразу же, как только сломались подпиленные чеки: почему это произошло? кем и зачем было содеяно?..
Но теперь времени на раздумья не было. Теперь, подымая пыль, кружили вокруг кони, теснили путников, так что перепуганный Данила вскричал на своем ужасном французском:
— Mais eaissez moi done, messieurs, êtes — vous fous?! [6]
Он не успел договорить: кузнец накинулся на него с веревкой; и девка тоже спорхнула с коня, угрожающе надвинулась: в глазах ее горела даже не ярость — чистое безумие! У Марии ослабли ноги, она покачнулась… Но тут кто-то стиснул ее локоть железными пальцами — и боль вернула силы. Яркие глаза офицера блеснули рядом; голос его зазвенел насмешливо:
— Угомонись, Манон! Ты сделала свое дело — теперь дай слово мне.
Девка возмущенно подалась к нему. От этого движения грудь ее вся выпрыгнула из корсажа. Данила и кузнец — оба замерли: один с вывернутыми за спину руками, другой — вцепившись в него; и оба разом сглотнули слюну. Голая девкина грудь, казалось, жила своей собственной жизнью.
И снова прозвучал насмешливый хрипловатый голос офицера:
— А в средние века, между прочим, пышный бюст был не в моде. Женщины, обладавшие такими вот формами, носили корсет, который, сжимая грудь, скрывал ее, насколько возможно…
Он хохотнул, но не отпустил руку Марии и подтолкнул ее к карете:
— Позвольте побеседовать с вами наедине, мадам.
Просьбу это мало напоминало, но спасибо — он хоть перестал называть ее гражданкой! Мария ненавидела это слово, которое звучало теперь повсюду: в лачугах и во дворцах, в полях и на площадях. Гражданка — слово грубое и бессмысленное, словно звон коровьего бубенца, и в то же время — пугающее, напоминавшее похоронную дробь барабана…
Полумрак кареты, знакомые запахи бархата и духов вернули Марии самообладание. Она села, неторопливо разложила вокруг пышные складки платья и небрежно кивнула офицеру, который все еще стоял, полусогнувшись, — был слишком высок, чтобы распрямиться в этой тесной, уютной коробочке.
— Вы можете сесть, сударь.
— Вы так добры, баронесса, — сказал он с иронией в голосе.
Сердце Марии екнуло. В следующее мгновение она выхватила из шелковой сумочки свои дорожные бумаги и ткнула ими в лицо офицеру:
— Да, я баронесса Корф. И что же? Мои документы в порядке, на них подпись самого Монморена…
— Да, да, русский посол господин Симолин и наш министр иностранных дел оказались настолько легкомысленными, что поверили в вашу байку: мол, собираясь в дорогу, вы нечаянно, вместе с прочим мусором, сожгли только что полученные документы, согласно которым собирались ехать во Франкфурт с двумя детьми — какими? чьими, позвольте спросить? — а также с камердинером, слугами, горничной и еще Бог весть с кем! Отчего же вы изменили свои планы и попросили новые документы — на выезд в Рим в сопровождении одного лишь слуги?
Только Симолин и Монморен знали о суете с документами, но лишь русский посол мог догадываться о том, что за всем этим кроется. Что же подозревает, о чем догадывается, что знает доподлинно этот офицер?..
Мария была слишком упряма, чтобы сдаться без борьбы. Она заносчиво спросила:
— А какое вам дело, сударь, до того, почему женщина вдруг изменила свои намерения? Да, документы сгорели, вдобавок я сочла, что холодный воздух Франкфурта не пойдет мне на пользу — и предпочла теплый, итальянский.
Офицер глядел сочувственно, кивал понимающе:
— Да, о да, мадам. Клянусь, вы меня убедили, к тому же я снисходителен к женским причудам… Скажите только, что же нам теперь делать с двумя баронессами Корф?
Сердце Марии снова екнуло. Она с трудом перевела дух.
— Как… с двумя?
— Да так. С вами, баронессой Марией Корф, глаза темные, волосы русые, рост высокий, двадцать девять лет, — и еще с одной, по документам — тоже двадцать девять, а на деле — тридцать восемь. И волосы у нее седые, и при ней увалень муж по фамилии Капет, который ехал под документами этого вымышленного камердинера. Плюс двое детей, верная подруга… — Он на секунду замолчал, глядя в ее побледневшее лицо. — Продолжать?..
Мария едва заметно покачала головой. И вдруг, встрепенувшись, ухватилась за последнюю соломинку:
— Вы сказали — седые волосы? Почему — седые? Тут какая-то ошибка!
Он помедлил с ответом, явно наслаждаясь ситуацией. Затем, чуть усмехнувшись, проговорил:
— Никакой ошибки, мадам. Волосы той, что ехала на север под вашим именем, волосы Марии… Марии-Антуанетты, которую французский народ справедливо прозвал австрийской волчицей, — волосы ее поседели за одну ночь — после возвращения из Варенна, где ее задержали.
Мария смотрела на него расширившимися глазами.
Все, конец. Вот теперь и впрямь — конец.
Варенн! Но ведь это совсем близко от Парижа! Почему же так скоро их схватили? Почему их вообще схватили? Что произошло, что не сработало в тщательно выверенном плане?!
Господи, как долго они готовились… Королева оказалась, как всегда, гораздо решительнее своего мужа. Людовик XVI никак не мог поверить, что его bon peuple [7] желает теперь лишь одного: низложения и смерти своего Bon Roi. Но устроить бегство королевской семьи — дело нелегкое, деликатное и опасное: следовало раздобыть деньги, фальшивые паспорта, карету, кучера, лошадей, охрану, провизию, нужно было договориться о подставах в дороге, вывезти монархов из Тюильри, доставить их к границе… Документами занималась Мария. Добыть их удалось без особого труда. Деньги раздобыли Жан-Аксель Фергзен, верный рыцарь несчастной королевы, ее наперсница Элеонора Сюлливан и старая графиня Строилова, тетка Марии. Элеонора, кроме того, заказала у каретника Жана-Луи огромную берлину [8], которая могла вместить и монархов, и свиту. Фергзен… Фергзен, казалось, был повсюду, принимал участие решительно во всем, и во время всех этих хлопот Мария впервые взглянула с уважением на красавца-шведа: да, любовь к королеве и впрямь — звезда путеводная его жизни!.. Когда все было готово, слажено, подогнано одно к другому, словно части хитроумного механизма, пришлось помедлить еще несколько недель, чтобы дождаться отпуска одной из горничных Марии-Антуанетты, которой побаивались, подозревая в ней демократку. И вот три дня назад одна баронесса Корф со свитой и семейством выехала на север, направляясь во Франкфурт, другая, почти в то же время, — на юг. И… и что же случилось? По какой причине столь тщательно слаженный заговор провалился?
Мария сжала кулаки — ногти вонзились в ладони. Однако туман в глазах от боли начал рассеиваться.
Так… Воистину, воля Господа неисповедима, и что случилось — то уже случилось. Но она еще узнает, как это произошло и можно ли все исправить. Правда, узнает и исправит лишь в том случае, если будет иметь такую возможность. А для этого надо поскорее воротиться в Париж, а еще прежде — избавиться от вертопраха-полицейского, нагло развалившегося напротив и не спускающего с нее своих бесстыжих глаз.
Гасконец! Со времен Анри IV все рисуют себе гасконцев в радужных красках и не знают в том никаких сомнений. Однако этот офицер — последний человек в мире, которому поверит и доверится Мария!
— Да, — задумчиво проговорила она, — быстро же вы до меня добрались…
— Это времена такие нынче — быстрые, даже стремительные. К тому же — счастливая судьба! — Он сделал попытку галантно поклониться, но задел макушкой потолок кареты и остался сидеть. — Правда, на сей раз судьбе помог один бдительный гражданин, друг народа… да вы его видели, наверное: кузнец из Мон-Нуар. У него возникли подозрения на ваш счет. Чтобы проверить их, он решил по мере сил и фантазии задержать вас в пути… а тут гонец из Парижа с известием о вареннском бегстве. Мы ринулись в погоню за вами — а вы нас уже здесь поджидаете!
Он явно издевался, но Мария и бровью не повела: что без этой мрачной твари, кузнеца, не обошлось, она уже давно поняла.
— Ну что же, гражданин, — ее передернуло от отвратительного вкуса этого слова, — вы прекрасно знаете: я — русская, я подданная Ее Величества Российской императрицы Екатерины Алексеевны, — а значит, могу себе позволить убеждения иные, чем у вас и ваших vignerons (от волнения Мария позабыла, как по-французски «кузнецы», и сказала «виноградари»). Не вижу оснований задерживать меня, а тем более — ломать мою карету. Извольте следовать своим убеждениям, а мне предоставьте следовать своим — и своей дорогою!
— Народ судит не за убеждения, а за действия! — проговорил офицер столь напыщенно, что сразу сделалось ясно: он повторяет чужие слова. Но тотчас в глазах его зажегся прежний нагловатый огонек, а рука медленно поднялась к плечу Марии и слегка коснулась его. — Горничным много хлопот с вашими туалетами, — снова заговорил гасконец. — Все эти застежки, крючки, шнурки… Mon Dieu, зачем? Я бы не стал медлить. Р-раз! И я бы кинжалом вспорол дорогую оболочку! — Он так резко провел указательным пальцем по корсажу к самому мыску лифа, от которого расходились складки юбок, что Мария невольно вскрикнула, словно он и впрямь оголил ее тело.
Он на секунду замолчал, затем заговорил очень медленно, словно с трудом подбирал слова:

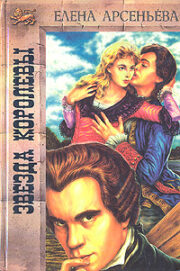
"Звезда королевы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Звезда королевы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Звезда королевы" друзьям в соцсетях.