За «муролем» Иван отправил посольство во главе с боярином Симеоном Толбузиным. Конечно, тот не мог возвратиться в Москву, не найдя никого достойного, и привёз из Венеции некоего Ридольфо Фьораванти, прозванного за многие умения и ум Аристотелем. Толбузин уверял великого князя, что еле уговорил зодчего ехать в Москву и с большим трудом получил разрешение на его выезд. Злые же языки, из соотечественников зодчего, поговаривали, что тот рад был пуститься хоть на край света, так как скрывался от гнева папы Римского. В Риме подозревали, что появившиеся было на потеху людям фальшивые монеты со смешным и заведомо искажённым изображением папы чеканил Фьораванти. Его посадили в тюрьму, лишили должности. Хотя вина зодчего так и не была доказана и его выпустили, подозрение осталось, и благочестивые католики даже в Венеции опасались иметь с ним дело. Так что приглашение великого государя Руси спасло Ридольфо Фьораванти от нищеты. Великий же князь Московский положил иноземному зодчему жалованье огромное.
Иван не прогадал: Фьораванти построил за четыре года собор, о котором летописец сделал на всякий случай, вдруг прекрасное строение не дойдёт до потомков, запись: «…была та церковь чудна вельми величеством и высотою и светлостью, и звонкостью, и пространством, такой же прежде не было на Руси опрочь Володимирской».
Прежде чем приниматься за постройку, Фьораванти осмотрел храмы в Ростове, Ярославле и Владимире. Владимирский храм произвёл на него большое впечатление, и его зодчий взял для новой постройки за основу. Однако переосмыслил его образ, наполнил иным содержанием: Успенский собор в Москве должен был восприниматься уже не как первопрестольный храм одного, пусть и могучего княжества, а всей православной Руси.
Требовательные московские правители, Иван и Софья, были весьма довольны Фьораванти: он и впрямь оказался Аристотелем – выказал себя искусным литейщиком, знатоком военного дела. Отливал пушки, ядра, не раз сопровождал Ивана в его походах. Софья писала о нём Анне, звала её посмотреть Успенский собор, постройка которого была закончена за год до нашествия Ахмата. Теперь прославленный иконописец Дионисий «со товарищами» украшал собор настенной росписью. Предпочтение на сей раз было отдано русским искусникам – иноземцы не справились бы с этой работой.
Анне хотелось посмотреть, как пишет Дионисий, что-нибудь заказать для себя, но она опасалась, что поездка в Москву принесёт ей огорчения больше, чем радости, откладывала её с месяца на месяц, потом счёт и на года пошёл – легче слышать о чужом богатстве, чем видеть его.
Василий ехать не собирался. После поражения Ахмата отношения у него с Иваном ещё больше разладились. Рязанское княжество не освободилось от ордынской зависимости, поскольку не участвовало в противостоянии на Угре, а прежде у Ахмата не было причин карать рязанцев – они исправно платили дань. Конечно, великий князь Рязанский мог не признать преемников Ахматовых – и навлечь на себя грозу. В этом случае оставалось надеяться только на Ивана – поможет, но и приберёт к рукам. Личная же встреча с ним в Москве за семейным столом неминуемо бы привела к «родственному» разговору о воссоединении, которого Василий не желал: с пелёнок не терпел никому подчиняться – озноб пробирал его, когда представлял себя под началом у Ивана. И лукавить не умел, как лукавил брат Марьюшки Михаил Тверской. Но тому ничего другого не оставалось – самостоятельность его была ещё менее надёжна, чем у Василия: Тверское княжество после многочисленных походов Ивана оказалось в кольце Московского, и всего восемьдесят вёрст отделяли его от Москвы. И всё-таки наивный Михаил надеялся остаться великим князем, вёл переговоры с королём Казимиром о поддержке и вознамерился даже жениться на его внучке. А у Казимира рука помощи коротка: Ахмату не помог, Михаилу едва ли поможет, до Рязани уж точно – не дотянется.
Не поехали.
Не поехали, когда в год окончания строительства собора Софья родила, наконец, долгожданного сына. Трёх дочерей они уже с Иваном имели, но оба мечтали о наследнике, хотя мечтать о нём Ивану вроде бы и негоже было при живом, здоровом, входящем в силу старшем сыне и соправителе. Однако не только печалились и надеялись, но и меры всякие принимали, чтобы непременно родился мальчик.
Софья написала Анне, что пешком ходила в Троицкую обитель к мощам святого Сергия Радонежского, покровителя московских князей. Ходила не напрасно – явился ей там сам святой с благообразным младенцем на руках и, приблизившись к ней, вверг ребёнка в её недра. Родившегося через девять месяцев мальчика назвали Василий-Гавриил. Преемственность имён в Рязанском и Московском княжеских домах продолжалась, но теперь она скорее была случайной, чем преднамеренной.
Не поехали, когда получили горестную весть о внезапной кончине в Москве Андрея Меньшого. Да и скорбели недолго, как скорбят о человеке просто знакомом – ни Василий, ни Анна не водили с ним дружбы. Он к ним тоже относился равнодушно и в завещании своём даже сестру не упомянул. Он умер холостым, оставив удел свой Ивану, кое-какие волости Борису и Андрею Большому, сорок деревень Троицкому монастырю, драгоценности – братичам, то есть сыновьям Ивана.
– Заметила ли ты, – спросил Василий Анну, – что все внезапные смерти наших московских родственников случаются в отсутствие Ивана, словно тщится он отвести от себя подозрение в причастности к ним? Да и умирают все похоже и завещания составляют в пользу любимого старшего брата…
– Что ты хочешь сказать?
– А то, что все эти непреднамеренные роковые кончины укрепляют его власть. Следующим буду я.
– Глупости – это совпадения! Я не допущу! Ты не умрёшь!
– Сколько там ещё у тебя вышитых крестов осталось?
– Каких крестов? А… Но ты же не веришь в это! Я тоже! Нет, нет! Я люблю тебя…
Анне было неловко раз за разом отказываться от приглашений, скучала по матери, понимала, что мать обижается на неё. Но ведь и они с Василием тоже обижались на родственников за их высокомерие: их приглашения очень смахивали на былые приглашения ордынского хана и его жён – приезжайте выказать нам свое почтение. Ни Иван, ни Софья за десять лет своего супружества Рязанию так и не посетили.
Было ещё приглашение из Москвы: Фёдор Курицын звал Василия проститься. Иван отправлял его к венгерскому королю Матфею Корвину для возобновления связи между двумя народами, которая была прервана чуть ли не на два века. Курицын не имел возможности приехать в Переяславль и сознавал, что Василий не сможет приехать в Москву, и предлагал встретиться на пути в Венгрию в любом удобном для Василия месте. Анна предостерегала Василия от поездки: узнает Иван о странной встрече – не сносить Курицыну головы. Подозрительный и осторожный, Иван истолкует дружбу своего дьяка с великим князем Рязанским как предательство и в бескорыстность их встречи на дороге не поверит ни за что.
Василий согласился с ней – и поехал. Успели место назначить, успели свидеться, поговорить недолго. Никаких посольских тайн Курицын не открыл, Василий и сам догадался, что Иван ищет поддержки у короля венгерского против короля польского. Поговорили о предстоящем путешествии, о его опасности, о возможных весёлых приключениях и прекрасных иноземках.
– Ничего не было сказано ни доверительного, ни сердечного, – признался Василий жене после поездки, – а ведь это была наша последняя встреча…
Анна порадовалась про себя, что встреча последняя – наконец-то прервалась опасная дружба, и полюбопытствовала, не взял ли с собой Фёдор сказительницу: ходили слухи, что она прижилась у дьяка.
– Нет, – ответил Василий рассеянно, – в посольском обозе не было женщин.
Анна усмехнулась – Пичуге ничего не стоило обрядиться парнем.
Семейная жизнь Анны становилась спокойнее.
Великий князь Рязанский Василий Иванович скончался внезапно в год своего тридцатипятилетия. Умер в Успенском соборе во время обедни. Опустился с молитвою на колени и вдруг рухнул ниц, растянулся на стылых каменных плитах.
Анна не сразу увидела – была в левом приделе перед иконою своей святой. Протискалась к мужу через сгрудившуюся вокруг него толпу. Те, что оказались ближе к нему, расступились, и кто-то сказал негромко:
– Отошёл.
Суетился причт, толком не зная, что делать. Сновали со свечами и иконами монахини, священник начинал отходную. Никто не пытался привести князя в чувство. Собрались, столпились лицезреть княжескую кончину. На лицах одних было любопытство – такое негаданное событие. Другие, их было больше, восприняли случившееся с благоговением как чудо Господне:
– Благодать снизошла, благодать!
– Отметил Господь!
– В храмах угодники помирают…
– Так ведь грешил покойный, – произнёс кто-то с сомнением.
«Покойный» – это слово вывело Анну из оцепенения:
– Не покойный! Ноги ещё не успели захолонуть, а уж судачат о его праведности, – она ринулась к мужу, рванула застежку однорядки, разодрала нательную рубаху. Сердце ещё слабо билось…
– За Еввулой скорей!
– Нет её в городе!
– Есть, есть – намедни прибыла.
А та уже мчалась от Глебовских ворот к храму, простоволосая, босая, оставляя на январском снегу маленькие, но глубокие, до прошлогодней травы, следы-проталины.
– Из храма выносите! Выносите! – кричала она на бегу.
Ей повиновались – быстро вынесли князя на паперть, уложили на шубы.
Еввула наклонилась над ним, шумно задышала ему в рот, принялась с силой сводить и разводить ему руки. За её странными действиями следили с надеждой – не впервой помогала. Но она медленно поднялась, одёрнула рубаху, отёрла косой вспотевший лоб и – двинулась прочь. Анна, помедлив, бросилась следом, ухватила её за рукав.
– Поздно, княгиня, поздно! – Еввула отмахнулась равнодушно и небрежно и вдруг свистнула – сорвались с колокольни галки, загалдели, захлопали крыльями.
– Еввулушка, милая, ну попробуй ещё! Ты можешь! – Анна бухнулась на колени прямо в снежный намёт. – Оживи, хотя бы как Евсея…

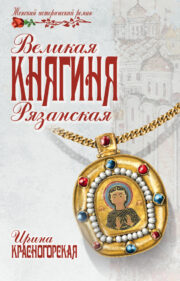
"Великая княгиня Рязанская" отзывы
Отзывы читателей о книге "Великая княгиня Рязанская". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Великая княгиня Рязанская" друзьям в соцсетях.