Иван на эти условия не согласился, но опять не смог сохранить в тайне позорные переговоры. Узнали о них в Москве. Духовенство вновь принялось убеждать великого князя постоять за отечество. Он получил грамоты от митрополита, архиепископа Ростовского и ещё от нескольких высоких духовных лиц. Говорили потом, что особенно убедило Ивана пространное письмо архиепископа, которое якобы даже было прочитано княжеским сподвижникам. Кое-кто запомнил из послания некоторые наставления. И до Переяславля дошло одно: «О, Государь! Кровь паствы вопиет на небо, обвиняя пастыря. И куда бежать? Где воцаришься, погубив данное тебе Богом стадо? Взыграешь ли яко орёл, и посреди ли звёзд гнездо себе устроишь? Свергнет тебя Господь и оттуда…<…> Нет, ты не оставишь нас, не явишься беглецом, и не будешь именоваться предателем отечества!..»
Однако среди передававших этот слух были и такие, кто полагал – не прекрасное письмо старца удержало Ивана на поле, а его братья Андрей и Борис, внезапно явившиеся в расположение русских войск.
– Вот это действительно изъявление любви к отечеству! – узнав о возвращении братьев, восхищался Василий. – А какая поддержка Ивану… Молодому: ребята – добрые воины, не то, что его батюшка! – и сожалел, что сам не может отправиться к Угре: опасно оставлять княжество – чем бы ни кончилось нашествие, победой или поражением ордынцев, их полчища будут возвращаться к себе назад, на Волгу, и могут пойти по рязанской земле. Один раз беда миновала, но минует ли в другой? Иван Москву отстоит, а до Переяславля ему дела нет!
– Не боишься участи прадеда своего Олега? – осторожно спросила Анна.
Она не знала, как должно Василию поступить, страдала, что он не идёт на помощь её братьям, и понимала, если покинет Василий в это тревожное время своё княжество, будут негодовать его подданные, и тогда уж он или она услышит: «Государь выдаёт нас татарам! Не стоит за отечество!»
– Не та у меня величина, Анычка, – ответил спокойно Василий, – прадеды мои Олег и Дмитрий Ивановичи – исполины, коим суждено было жить рядом и соперничать. Ни тот, ни другой не могли одержать победы в своём единоборстве, поскольку равны были по силе, как теперь ордынцы и москвитяне. Но заразили соперничеством своих приспешников, в том числе сказителей разных и летописцев. Преуспели москвитяне, их летописцы были плодовитее и летописи хранили лучше. Но и то в одной из них мне прочитать довелось, что Дмитрий победил Мамая, чтобы, увидев потом пепел Москвы, платить ещё большую дань, но Тохтамышу.
Анна хотела вступиться за своего прадеда, бывшего одновременно и нелюбимым прадедом Василия, но воздержалась – ну, сколько можно тлеть огню вражды между княжескими семьями, ни общие внуки исполинов, ни их правнуки не смогли его окончательно погасить. «А вдруг соперничество между москвитянами и рязанцами будет длиться и тогда, когда иссякнет кровь наших прадедов?» – подумала она и засмеялась нелепости этой мысли.
Ехать к Угре вскоре не стало нужды – наступила развязка. Первую весть о ней принесли птицы. Чёрные вороны потянулись к лесу, поодиночке, парами, небольшими стаями. Пролетали низко и молча над Кремлём и в неспешном тяжёлом полёте были похожи на уставших воинов, выполнивших свой долг.
– Чекломенде! – приветствовала их Анна с крыльца, не зная, что слово это означает «молчите». – Чекломенде!
Наконец в Переяславле стало доподлинно известно, что ордынцы без боя признали своё поражение и отступили от московских пределов. Движутся по Литве, разоряя земли, подвластные недавнему союзнику королю Казимиру. Его теперь якобы наказывают за отступничество, за то, что пообещал помочь и не помог.
– Да не в отступничестве дело! – горячились бояре в Переяславле и иной бывалый люд на торгу и в кружалах. – Как иначе им прокормить такое скопище людей и коней.
– Ну, коней-то, поди, уже съели. Счастье наше, что не к нам пошли.
Победу, удачу праздновали и в княжеском терему. Народу собралось много, радовались и веселились искренне. Славили мать великой княгини инокиню Марфу за мужество – не оставила столицу в тяжёлое время, – за то, что воспитала и вырастила доблестных сыновей. Славили Андрея Большого и Бориса – презрели обиды и вернулись защищать отечество. Славили духовенство.
Об Иване молчали. Втихомолку все порицали его за нерешительность, трусость и самолюбие, не могли простить ему и того, что жёнушку свою иноземную отправил за тридевять земель. Говорить о нём дурно на пиру, да ещё при его сестре никто, конечно, не решился бы, но и петь ему славу, кривить душой, чтобы угодить родственникам, не желали. Да и саму победу считали московской – общерусской её не воспринимали. Рязанцам она, как Куликовская битва век назад, ничего не дала: никто договора платить ордынцам дань не отменил. У Москвы с ордынцами были свои расчёты, у Переяславля – свои.
Москва якобы узаконила на Угре своё право не платить дань, рассуждали рязанские бояре, но как бы за это право дороже казне не стало – сколько денег на подкуп разных татарских царевичей уйдёт, так называемых союзников, молодых волков, что в лес смотрят, Данияра, Нордоулата, Айдара и прочих. Нет уж, определенность лучше: платишь дань и знаешь – никто разбойничать не будет.
«Господи, неужели свершилось? – думала Анна, сидя за небольшим княжеским столом сбоку от общего длинного. – Это же особый пир, каких ещё не было на Руси. А всё так обычно, разве только татар за столом нет. А выйдешь за ворота – и встретишь их на улице, и никто камней в них не кидает, собаками не травит, и татарская слобода, как стояла, так и стоит. И здесь, в трапезной, вроде никто и не понимает, что произошло событие величайшее, о котором столько лет мечтали…»
Ей хотелось плакать. Неужели мечта сильнее свершения?
Лились мёд, квас, заморское вино, пятнали дорогие скатерти. Слуги с кушаньями выстроились в очередь, скрывающуюся за дверями. Шумели подвыпившие гости. Возились под столами не то собаки, не то шуты. Галдели скоморохи. И чем дольше длился пир, тем меньше помнили пирующие, из-за чего собрались.
И вдруг всеобщий галдёж перекрыл голос князя Пронского. Он сидел за длинным столом лицом к княжеской чете и часто встречался взглядом с Анной, однако это теперь её не радовало.
– Слушаю и думаю, – начал он, – что не о том мы говорим, не тому радуемся. Ведь сброшено иго монгольское! Исполнилась наконец мечта наших отцов, дедов и прадедов и даже прадедов наших прадедов. Пусть не сразу это скажется на нашей жизни, не сразу изменит её к лучшему. Какое-то время нам придётся ещё ходить в должниках ордынских. Но их хан – больше не царь наш. О его здравии не будут молиться в церквях, наши князья не станут ездить к хану на поклон, унижаться перед его послами.
Все слушали с большим вниманием, оставив яства и питьё, слуги замерли с большими блюдами на вытянутых руках, унялась возня под столом. Анна смотрела на Владимира Пронского с восхищением. Перехватив её взгляд, он продолжал с ещё большим пылом:
– К нам вернулось попранное два с лишним века назад достоинство. И заслуга в этом всецело принадлежит великому князю Московскому, его смелости. Да, да, смелости! Не мог он не думать о последствиях, когда раз за разом дерзил хану через его послов, не платил дани.
Ропот прошёл по застолью, на многих лицах появились ухмылочки, даже слуги позволили себе насмешливо улыбнуться. Анна не видела лица Василия, но поняла, что и он не стал скрывать, что речь князя пришлась ему не по вкусу. А тот, не смутившись всеобщим недовольством, говорил уже о мудрости Ивана: не поспешил – людей не насмешил, избежал кровопролития, вдобавок выказал себя истинным стратегом. Да, стратегом, потому что, пока войска двигались к Угре, он договорился с крымским ханом Менгли-Гиреем, и тот напал на Литовскую Подолию, отвлёк Казимира, в это же время тайно посланный Иваном отряд напал на ордынскую столицу, заставил хана оставить поле боя и ринуться на её защиту.
– И всё великому князю Московскому удалось с лихвой, – заключил Владимир и, поклонившись Анне, осушил чашу.
Теперь уже зашумели вовсю, так что Василию пришлось постучать по столу, а любимому псу его тявкнуть. Несколько человек поднялось сразу, чтобы высказать возражение, но опередил всех боярин Шиловский:
– Говоришь, князь, Ахмат бросился защищать свою столицу, оттого и не принял сражения на Угре? А почему же передумал он и не вернулся до сих пор в свои улусы, рыщет по Литве?
Не успел князь Пронский ответить, как поднялся епископ, сказал спокойно и веско:
– Не пищали великого князя Московского, не мудрость его, всеми признанная, а Господь спас Московию, избавил народ от кровопролития. Значит, и славословить надо Всевышнего.
Как было не согласиться с епископом. Все воздали хвалу Всевышнему.
А в конце пира Владимир Пронский, сияя на Анну глазами, рассказал сказочку. Она решила, что за пиршеством её и придумал:
Козел и баран сошлись для драки в полдень солнечный. Уже и головы пригнули – рогами сцепиться или лбами стукнуться, как вдруг шарахнулись, разбежались, что есть мочи в разные стороны… Тени своей испугались.
Сказочка рассмешила захмелевших гостей. Порадовался их веселью рассказчик. Анна же вспомнила о непутёвой сказительнице: где-то теперь она, бедная, горе мыкает? Подумала ещё: сказительницу прогнала, а Еввулу не удержала, зато увидела богиню Нишкенде-тейтерь, узнала судьбу своего рода – лучше бы её не знать, богини не видеть…
– Чекломенде, – сказал кто-то тихо или это только послышалось, – чекломенде.
За стенами трапезной лениво сыпал мелкий колючий снег, медленно, неотвратимо закрывал землю теперь уж до весны. Ненастное небо приблизило окаём к самому Трубежу. За плотным серым пологом оказалась Ока и подступающий к ней мещёрский лес. Едва ли Нишкенде-тейтерь оставалась в эту пору под священными берёзами. Да и что было предначертано свыше, она, наверное, выполнила…
И опять была весна на грани лета. Розовые сквозные облака опустились на яблони в садах, осели на опушках бескрайних лесов. Белой пеной вскипел в оврагах и лощинах терновник.

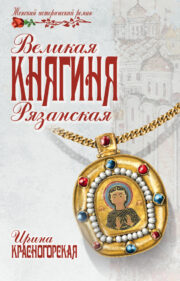
"Великая княгиня Рязанская" отзывы
Отзывы читателей о книге "Великая княгиня Рязанская". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Великая княгиня Рязанская" друзьям в соцсетях.