– Что это, икона или зеркало? – спросил Василий, помогая вынуть тяжёлый свёрток.
– Картина, изображение – подарок Софьи.
– Ты о нём ничего не говорила.
– Разве? – буркнула Анна и склонилась над лежащим в сундуке платьем – стало стыдно от вранья, но лгать пришлось и дальше.
– Посмотрю?
А сам уже развязывал верёвку, снимал холстину. Анна вынула платье, встряхнула, приложила к плечам – и тут же, радуясь, что Василий не смотрит на неё, швырнула обратно. Платье Софьи не пришлось ей впору – широченное и короткое, не доставало до щиколоток. Зачем только взяла, зачем столько лет хранила!
Василий поставил картину к спинке стула и начал медленно пятиться от неё, словно в испуге, пока не упёрся в стену. И замер. И посветлел лицом. Слыша прежде это выражение, Анна думала, что так говорят для красного словца, но тут оно пришло ей на ум – точнее определить, как переменился Василий, не могла. Однако, несмотря на замешательство, поспешила закрыть сундук, чтобы Василий не увидел злополучного платья, не догадался, что на свадьбе была в другом и не подумал, не дай бог: коль способна на малый обман, жди большого, чтобы не вспомнил: «яблочко от яблони…» Э-эх! Анна слишком поспешно опустила крышку, и та громыхнула. Василий вздрогнул, но не отвёл взгляда от картины, спросил еле слышно:
– Что это? Неужели творение простого, смертного человека? Они как живые. Нет, прекраснее живых – они светятся и благоухают. И такое чудо я мог не увидеть! В своём доме! Как можешь ты держать такое в сундуке, среди тряпья!
– А куда её? – Анна заговорила быстро и зло. – В молельню? Уразумел, что прекрасная женщина – Богоматерь. Но разве такую Богоматерь у нас чтят? Да меня предадут анафеме, коль поставлю её в молельню! И никто, слышишь, никто… – Она не договорила. – Нареку просто горожанкой, кормилицей, повешу в опочивальню – сочтут сумасшедшей, глядишь, в монастырь упекут. Даже наша римлянка, даже она, царевна, не отважилась повесить картину в своей опочивальне и рисовать бросила. Так, как рисует она, тут не рисует никто! За иголочку ухватилась, чтобы с боярынями московскими уравняться. Быть как все! И нам не позволят стать иными. У нас же дикая страна! Дикая! У нас людей на дорогах татары, как овец, как зайцев, арканами ловят. Даже обычная женщина, не княгиня, не боярыня, без провожатого носа на улицу не высунет. Нам не до картин!
– Марк отметил, что у нас на удивление спокойно, – усмехнулся Василий и добавил решительно: – Я повешу её у себя.
– Не делай этого, заклинаю! Она принесёт тебе, нам несчастье. Её… – Анна осеклась, побоялась открыть правду. Василий набросил на картину холст и понёс её к дверям, будто только за ней и приходил.
– Я не стану принимать посла! – крикнула ему вдогонку Анна и пояснила спокойнее: – Не гнева Ивана боюсь – прогневаются твои подданные.
– Как знаешь, – спокойно произнёс Василий и осторожно закрыл за собой дверь. Примерно через час он уехал на охоту. Однако успел повесить картину у себя в передней горнице над столом, за которым читал и писал. Повесил невысоко, так что казалось, прекрасная белокурая женщина смотрит через окно печально и сочувственно.
Анна не приняла Амброджо Контарини. Изодрала в клочья дарёное платье и собственноручно сожгла его в печи, которую приказала для этого затопить. Потом прогнала с глаз долой боярыню, отвечающую за сохранность княгининых сундуков. Её подручных, безродных, повелела высечь и, успокоившись, отправилась в детскую горницу к младшему сыну, с ним забавлялась до вечера.
Послы оставили Переяславль наутро. Амброджо Контарини, подобно Афанасию Никитину, вёл путёвую тетрадь. Обиженный невниманием княжеской четы, он вскользь упомянул в тетради о столице Рязанского княжества, но сумел унизить великого князя Василия, назвав его «князьком», подчеркнул его зависимость как от князя московского, так и от жены. Запись стала достоянием истории, а великие князья Рязанские о маленькой мести венецианского посла не узнали…
Анна привычно оторвалась от своей охраны и неспешно ехала вдоль неровного берега. Далеко внизу вилась Ока.
Уже убрали хлеба, и на нивах некрасиво топорщилась жесткая рыжая стерня. Луга больше не радовали глаз разноцветьем. Только кое-где у кустов беспечные косцы оставили высокую траву, и на ней солнечными зайчиками вспыхивали головки пижмы, яхонтами посверкивали крохотные колокольчики. У них были тонкие, почти прозрачные лепестки, и всё-таки они давали густую, пронзительную синь, видную издалека.
Давно отошла сладкая пахучая полуница[46], которой славились окские косогоры, и лишь неразумные дети могли надеяться сыскать её в эту пору. И всё-таки из-за этой былой ягоды Анна затеяла далёкую прогулку вдоль Оки. Верные стражи княгини, конечно, не знали об этом, как не знали, не могли предугадать, что заставляет её вдруг пускаться вскачь, мчаться куда глаза глядят.
Ездила теперь Анна хорошо и уверенно. Но обязана этим была не столько своей настойчивости и терпению, сколько прекрасному коню. Выросший у неё на глазах, в княжеской конюшне, он отличался необыкновенной привязанностью к хозяйке, послушанием, был резв и понятлив. Выполнял не только её приказы, но и словно опережал их, улавливая её желание и настроение. Не раз представлялось Анне, что и не животное он, то есть не тварь изначально бессловесная, а какой-то добрый дух, скрывающий до поры до времени свои возможности, или заколдованный принц. Детские грёзы о сказочных принцах так и не оставили княгиню, хотя и шёл ей тридцатый год. Правда, не имели теперь образного воплощения, всяких там красных сапожек или шитых жемчугом ожерелий, – присутствовали, как постоянное ожидание чуда, и она была готова к тому, что её выкормыш возьмёт да заговорит человеческим голосом. Никому не пыталась поведать своих представлений: опасалась, что ретивые слуги заподозрят, что любимец её – оборотень, изведут коня. Она так боялась за него, что сама задавала ему корм. Конь настолько привык к этому, что, когда ей случалось захворать, голодал по нескольку дней, но не брал пищи даже из рук холившего его конюшего.
Повинуясь то ли своему, то ли хозяйскому желанию, конь нёс Анну к кустарнику над обрывом, а достигнув его, замер, как вкопанный. Анна легко спешилась, радуясь, что одна и без насмешливых взглядов может пошарить в высокой, всё ещё зелёной, в тени куста, траве. И только нагнулась – сразу ухватила подвяленную, ставшую коричневатой полуницу. Но прежде, чем отправить её в рот, взглянула на коня – ни поделиться ли? Конь смотрел на неё с радостным пониманием и словно проговаривал беззвучно: «Не надо! Ешь сама».
Послышались обеспокоенные возгласы приближавшейся охраны. Анна шагнула за куст – и тут же отпрянула. Из середины его, ломая ветки, нечто громоздкое стремительно взмывало вверх. Анна так испугалась, что даже не вскрикнула. Конь успокоил её коротким ласковым ржанием, но не сдвинулся с места. Не было причины тревожиться – по краю жнивья, припадая и волоча крыло, заковыляла обыкновенная пеструха, самка полюха, обычного степного тетерева. Анна, чтобы разглядеть её, чуть подалась вперёд – тут же из куста брызнули, разлетелись в разные стороны птицы поменьше – полюшата. И вместе с матерью все исчезли где-то под обрывом.
– Эх, не успели, – сокрушались подоспевшие стражники. – Такое жаркое пропало! Дозволь, княгиня! – И не дождавшись согласия, припустили к обрыву. Анна поскакала следом.
Птиц нигде не было видно – опять где-то затаились, улететь в темневший на окоёме лес они, конечно, не успели.
Анна перевела взгляд с небес на землю. Пойма реки была пустынна – ни построек, ни людей, ни пасущихся стад, а ведь время послеобеденного отдыха миновало.
«Неужели так отдалились от города, что кругом ни души?» – только подумала, как откуда-то слева появился отряд всадников. Они быстро двигались, почти мчались по влажной полоске приречного песка. Сверху казались маленькими, игрушечными, и она не сразу заметила, что передняя лошадь не осёдлана, а на постромках за ней волочится какой-то куль. Всадники понукали её нагайками и криками. Вот-вот все они должны были оказаться под стоящими на обрыве.
– Эк мордва веселится! – сказал стремянной.
– Не веселится, а учит кого-то, наказывает, – возразил ему кто-то.
– Никак в мешке баба, голову выпростала, волосья…
– Стойте! Стойте!
Анна потом не могла вспомнить, сама ли отважилась ринуться с обрыва или конь решился. «Только бы ног не переломал», – успела подумать на лету и, не испытав испуга, уже мчалась наперерез неосёдланной лошади. А та вдруг резко и круто свернула к воде, погрузилась по брюхо и остановилась. Следующая взвилась на дыбы, чтобы не ступить на лежащий куль.
– Стойте, воры! – вопила Анна, хотя отряд остановился. – Стойте! Самосуд в моём владении? Не позволю!
Всадники, было их четверо, поражённые её внезапным явлением, замерли, оцепенели, испуганно соображая, кто перед ними – языческая ли мать богов Ангепатяй или христианская Богородица.
– Освободите немедленно!
Приказание поняли, спешились, бросились обрезать постромки, все враз суетливо завертелись у куля. Подоспела стража. Завидев её, преступники пришли в себя и кинулись к своим лошадям… Княгиня первой метнула аркан. Не промахнулась. А люди её в ратных делах были куда искуснее. Не успел стременной распутать бездыханное тело, как все лиходеи оказались заарканены.
– Боже праведный! – вскрикнул стременной. – Госпожа, глянь, кто это!
Не слезая с коня, Анна склонилась к женщине. На разодранной в клочья мешковине лежала Еввула.
– Нет! Нет! Нет! Не может быть! Не она! Да лейте же воду! Скорее!
Но зачем вода, к чему она, когда в лицо бедняге волна хлещет.
– Не нужно! Унесите от реки – на траву. И под голову что-нибудь. Осторожнее! Дышит ли?
Анна соскочила с коня, сняла с себя душегрейку, но Еввуле уже подложили что-то мягкое под голову. Она дышала и вдруг всхрапнула коротко и шумно, как лошадь.

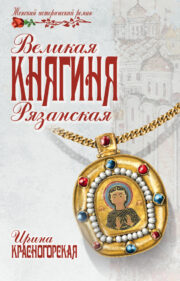
"Великая княгиня Рязанская" отзывы
Отзывы читателей о книге "Великая княгиня Рязанская". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Великая княгиня Рязанская" друзьям в соцсетях.