Но она всё-таки пошла, постояла у его колыбельки. Ванюшка никак не хотел отказаться от своего младенческого ложа, требовав, чтобы его качали перед сном. А зыбка давно уже была ему мала. Вот и теперь он лежал в ней, скрючившись, свесив через край ноги в полосатых чулочках. Анна попеняла дядьке, что не перенёс мальчика на лежанку, сделала замечания для порядка женской обслуге княжича и, поцеловав осторожно сына, пошла к себе.
На её половине было тепло и покойно. Неярко горели свечи, где-то за печкой уютно стрекотал сверчок. Откуда он только взялся! Давно она его не слышала, почитай, с самого раннего детства, когда захотела посмотреть, что за певец поселился в её светёлке. Подняла рёв на весь терем, требуя, чтобы няньки-мамки немедленно сыскали его: мечтала посадить в золочёную клеточку, любоваться и слушать. Женщины усердно обшарили все углы и, наконец, показали ей маленькое полупрозрачное существо, что-то вроде таракана. Оно было так безобразно, так не подходило для золочёной клеточки, что рёв превратился в ор, выплеснулся из терема на Красную площадь. Перепуганная мамка потащила орунью к ведру сплёвывать, накопившуюся злость выбрасывать и говорила при этом, что незачем быть сверчку красивым, коли он пением своим счастье приносит. Его чтят и в избах бедняков, и в хоромах княжеских. Она не хотела сплёвывать, она не желала, чтобы в её светёлке жило страшилище, пусть и крохотное, ей не нужно было счастье. Сверчка, сверчков из её покоев вымели. Мамки-няньки посокрушались, похныкали, но против воли княжны не пошли и княгине не пожаловались. Теперь Анна обрадовалась его немудрёной песенке – к счастью! Счастье стало нужным. Представление о нём совпадало с любовью, а любовь – с глазами лунной синевы…
Сенная девушка, переодевавшая княгиню на ночь, пыталась с ней поговорить, робко расспрашивала о свадьбе, но Анна не ответила – не в силах была оторваться от греховных грёз, навеянных певцом запечным, и более того – жена верная, старалась в это время представить, что не девичьи нежные пальцы переплетают ей косы.
– Великая княгиня! – прервал её мечты постельничий, возвестил из-за двери громко, грубо: – Великий князь велит тебе пожаловать в его покои не мешкая.
– Велит пожаловать, – насмешливо повторила Анна, – коли велит, то прийти, если пожаловать, то просит.
– Что так, что эдак, всё равно идти! – обидчиво отозвался постельничий. – Аль не пойдёшь?
– Идём, обожди чуток.
Анна набросила на ночную свежую, всю в узорах цветной перевити[43], но не белую, рубаху стёганный ордынский халат. Халаты полюбились богатым рязанкам, но стали одеждой сугубо домашней. Спрятала косы под плат. Девушка взяла тёплую шаль и какое-то шитьё или вязанье, чтобы скоротать ночь, если княгиня останется у князя до утра. С небывалой торжественностью, словно в тереме гостили посторонние, отправились на половину князя. Впереди шагал рында, освещая путь, ещё один замыкал шествие. Две девушки несли одежду, постельничий шагал для порядка. Пять человек сопровождали княгиню к мужу, пять человек обязаны были праздно ждать, когда она соберётся обратно. Чего ради эта пышность? – недоумевала Анна. – Всё на людях, всё на людях. Может, в доме посторонний? Поэтому Василий вспомнил о правилах.
– Извини, что побеспокоил, Лисонька, у меня теплее, – объяснил он и подвинулся, уступая ей место с краю, – не ожидали, что нынче приедешь, и твою опочивальню плохо нагрели.
– Да, конечно, надо дрова беречь, – согласилась Анна, не веря мужу: у неё было теплее, и необычный приём настораживал.
– У нас гости?
– Нет никого. Откуда им взяться! – Василии подоткнул край одеяла жене под спину и, невольно коснувшись её, отпрянул – обычай не позволял мужу трогать беременную жену. Анна знала о нём и всё-таки обиделась – рванулся, как от чумной, уж поцеловать-то мог, спросила сухо, противным даже себе голосом:
– О платье как узнал?
– Фёдор Курицын грамотку прислал. Обижен, что не приветила его.
Фёдор Курицын – странно как! Опять из её детства всплыло это имя.
– Не приветила! Да я его и не признала там.
– Умнейшая голова! Который уж год мы переписываемся. Ему бы быть великим князем, а не нам с Иваном…
– Кому на роду что написано. А пока вы княжите! Он же сказки или побывальщины сочиняет и скоморохам передаёт, чтобы людей позабавить. Страшные они, однако. Знаю одну, да боюсь к ночи пересказывать, – и тут же рассказала о Пичуге Степановой, девке или молодухе настырной. Передала с подробностями, на ходу их присочиняя, историю воеводы Дракулы. Василий слушал с большим вниманием, а когда она замолчала, сказал, что и не сказочка это вовсе. Не для развлечения праздного люда выпустил Фёдор историю иноземного воеводы в свет. Она предупреждение Ивану не от одного дьяка Курицына, от народа, какого скоморохи да сказители представляют, – плохо кончит, если не переменится, не урежет свою жестокость, свою гордыню непомерную. Вон ведь не помогла мудрость жестокосердному воеводе – погиб хоть и в бою, однако от стрел своего войска, от рук своих подданных.
– Не было в истории такого, я этого не говорила, и Галка, Пичуга то есть, сказывала, жив воевода, живёхонек!
– Ну как же, – усмехнулся Василий. – Дракула поднялся на гору, чтобы посмотреть на поле брани, а подданные приняли его за врага или потом сказали, что приняли…
– Не было этого!
– Не было – будет, не с Дракулой, так с Иваном, если не перестанет согражданам своим головы на Москве-реке сечь. То купца, слышишь, головы лишил, то лекаря, а на свадьбе (на свадьбе!) посла своего, свата своего в темницу заключил, всё состояние отобрал.
– Фрязин предал Ивана!
– Но нет, разве с такой женой он остановится! – Василий придвинулся к Анне, заговорил быстро и очень тихо, почти зашептал: – Слух идёт: Софья не только толста непомерно, но и свирепа. Отравителя с собой привезла. Да не какого-то там грека неизвестного, а недоброй памяти Стефана Бородатого, того самого, что Шемяку помогал отравить. За звездочёта выдаёт. Какой он звездочёт? – старый шут. Бороду сбрил, под латинянина рядится, а как был негодяем, так и остался.
«О ком это? Почему с такой злобой? Неужели о хранителе Софьиных книг? Он такой милый старец… Ужас, если всё правда…»
– Моего отца, думаю, не без его помощи на тот свет отправили.
– Господи! Что за страшные выдумки! Видно, и впрямь не к часу я про Дракулу рассказывала. Болел дяденька Иван сухоткой, от неё и умер…
– Сухотку отравой вызвали.
– Не верю! – перебила Анна со смехом и села в пышно взбитых подушках. – Кому он свет застил, тихий да добрый?
– Тому, кто на княжество Рязанское зарился. – Скорее догадалась, чем услышала она и переспросила:
– Кому?
Василий промолчал. Ей показалось, что молчит он вечность. И не в силах вынести этого обличающего молчания, жуткой, кладбищенской тишины, в опочивальне Анна закричала, как в детстве, не беспокоясь, что услышат за дверью – пять человек, сопровождавших её, и ещё человек пять караула.
Василий пытался успокоить её, обнял, презрев завет. Она уклонялась от его поцелуев, барахталась, путаясь в длинной рубахе, в тяжёлом беличьем одеяле.
За дверью тревожно переговаривались, но вмешаться не решались: думали, наверное, князь жену учит. Разве могли они представить, что у княгини рушится жизнь не только настоящая, но и будущая, и прошлая, с безмятежным детством, и княгиня бедная не в состоянии выбраться из-под обломков – прикована к постели. Коротка цепь, три шага до двери, три до окна, люди за стеной – один выход – крик. А с криком вырывается, уносится в небытие любовь к отцу, сама память о ней.
– Навет! Козни! Он не был убийцей! Он боролся за престол!
– И превыше всего ценил власть.
– А что ценнее её, богатство?
– Любовь.
– Любовь? – с горестным сомнением уже тихо протянула Анна и откинулась на подушку. – Любовь…
Глаза сами собой закрывались – одолевала дремота, и сквозь дремоту она услышала напористый, высокий, ломкий голос:
«В сущности, на этом свете никто никого не любит», – и увидела внутренним взором незнакомца, очень похожего на Фёдора Курицына, каким он вспомнился, но значительно старше, в странной одежде. Он стоял на невысоком, поросшем только-только пробившейся травой узком валу. С трёх сторон вал окружала чащоба камыша, за ней искрилось большое озеро. Удивительное озеро – составленное, как окошко, из отдельных разновеликих кусков прозрачной глади с переплётами камыша между ними, в обрамлении зубчатой полосы ещё безлистого леса. Множество чаек бушевало над его серединой. И они верещали так неистово, что почти не различались иные звуки. Однако Анна отчётливо расслышала ответ незнакомцу и тут только заметила чуть поодаль от него наклонившуюся за первоцветом женщину и, когда та выпрямилась, узнала в ней гостью своих снов, бескосую, простоволосую, хотя и немолодую уже, одетую почти так же, как незнакомец – длинные штаны, рубаха без пояса, сума перемётная через плечо.
Небрежно, как бы между прочим, женщина говорила: «Вы не правы. Дело в том, что женщинам надоела зависимость от мужчин. Они устали обслуживать мужей, не желают связывать себя брачными узами».
– Разве такое возможно? – выкрикнула Анна, забыв, что смотрит на происходящее как бы из дальней дали, вроде бы откуда-то сверху, и то, что видит ясно лица чужаков, слышит и понимает их речь, – чудо из чудес. Но мужчина вскинул голову в недоумении. «Чайка!» – сказала женщина и засмеялась молодо, счастливо.
Видение исчезло.
– Эх! – вздохнула Анна сокрушённо, жалея, что невольно прервала его, и вдруг до неё дошло, что чужаки не только были одеты иначе, чем её современники, они говорили на ином языке, вроде и по-русски, но по-другому.
– Анычка, ты задремала? Не отвечаешь, вскрикиваешь. Что с тобой?
– Я думала, как мы жить будем дальше. После того, как такое открылось.
– Для меня ничего не изменилось. Ещё мальчонкой об этом догадался. Дядьки старших княжичей шептались, а я подслушал. Говорили: умер Шемяка с отравы, кою из Москвы привезли и дали ему в куряти. Великий князь узнал о его смерти и не по заслуге вестника наградил. Оттого тайное стало явным. Никто из приближённых князю на промашку не указал: то ли трусливы бояре, то ли недогадливы. Он повторил промашку, когда умер второй двоюродный братец, рязанский, и опять ползут слухи по Москве. «Жаль мальца», – сказал один из дядек. – «Его не отравят, – возразил другой, – заложником держат». Вот так возникла догадка.

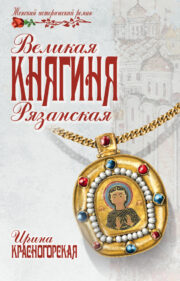
"Великая княгиня Рязанская" отзывы
Отзывы читателей о книге "Великая княгиня Рязанская". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Великая княгиня Рязанская" друзьям в соцсетях.