– Хочу спать. Спать, спать. Буду спать целый день, нет, сутки, неделю.
Василий швырнул надкушенное очень вкусное, медовое, яблоко, и они пошли по дорожке к терему, на которой только что Анна видела Юрия… Теперь, уступая им дорогу, с неё сходили бабы с полными и пустыми корзинами, сгибались в поклонах до земли, и не одна не запомнилась Анне – белые платки, холщовые рубахи. «Есть ли под этими рубахами что-нибудь? – подумала Анна вяло. – Наверное, есть, иначе не подняла бы подол та баба, что намеревалась спасти княжича, надо бы наградить её чем-нибудь». Анна не узнала бы сейчас этой посадской молодухи, но вдруг позавидовала ей и всем её товаркам: счастливые – живут со своими мужьями и детьми без назойливых слуг, без их любопытного и осуждающего, завистливого погляда. Ей захотелось невозможного, чтобы Василий отнёс её в опочивальню, но он не мог войти туда в неурочное время. Она не могла кормить своих детей сама, а чтобы поймать ребёнка в подол прилюдно, у неё самой смелости не хватило, хотя чего только не было на ней понадёвано даже в эту августовскую жару.
Василий говорил что-то оживлённо и ласково. Она не слушала: перенеслась в выдуманный лад вольного, посадского житья, забыв или плохо представляя, что живут бабы в избах с одной горницей, спят вповалку с детьми на полу, а нестарые их свёкры – на лежанке, древним бабкам-дедам достаётся печь, и с мужьми наедине эти счастливицы бывают разве в бане да где-нибудь в овине, где на них с любопытством поглядывает всяческая живность. Она не подумала, что не решившиеся даже разогнуться, пока она не уйдёт, они не в состоянии даже завидовать ей.
Она спряталась в сон. Ушла в другой мир с радостной готовностью, не раздумывая, что её там ожидает. Спала без видений до вечера. Потом с часок, совершенно разбитая и невыспавшаяся, побродила по своей опочивальне и опять улеглась. Ночной сон тоже не принёс бодрости, и на удивление прислуге, встревожив мужа, она после снеданка забралась под одеяло. Её знобило, несмотря на не отступавшую жару. Василий послал за лекарем. Тот долго мял руку дремлющей Анне, трогал её лоб и сказал, что горячки нет, по-видимому, слегла от утомления, пусть-де княгиня спит, сколько захочет, но попоить кровью загнанного зайца её все-таки следует.
Лекарь ушёл к себе, боярыни зашушукались по углам, ловчие поспешили гонять зайцев, пополз по Переяславлю слух о странной княгининой хвори. На время и о татарах забыли. Да что о них помнить? Миновали рязанские пределы и – беда миновала!
Проснувшись на четвёртый день, Анна почувствовала необыкновенный прилив сил – может, заячья кровь помогла. Заря только занималась. Терем безмолвствовал. У порога на ворохе половиков спала одна сенная девка, на лавке за столом другая. Анна не стала их будить, проворно поднялась и на цыпочках подошла к окну.
Туман поднимался над Трубежем, закрыл остров и двигался к яру разбушевавшимся, как в половодье, потоком, поднимаясь всё выше и выше, вот-вот преодолеет обрыв и вряд ли тогда удержит его новая, сложенная из плинфы крепостная стена.
Анна взглянула на стену – в её белёном боку зияла дыра. Не дыра даже – огромный провал с неровными, выщербленными краями, с кучей побитой плинфы посередине. И на этой горе обломков, стоя на задних ногах, дрались три большие козы. Они сцепились рогами и тем только сохранили равновесие. Дойные козы, молочные – вымя, что бурдюк, почти обломков касается. И откуда только взялись? – в кремле коз не держали, на конюшне козёл жил, чтобы духом своим противным ласок отпугивать. Пока Анна соображала, почему в стене пролом, будто её пороком молотили, как очутились на кремлевском подворье козы, и с кого за это спросить, как козья борьба кончилась. Козы обрушились наземь, подогнув передние колени, вскочили и оказались уже на значительном расстоянии от стены. У той, что стояла ближе к окну, сломался рог, из его основания хлестала кровь.
– Ой! – воскликнула Анна. – Девки! – и проснулась. Над нею склонился Василий и смотрел горестно, сочувственно. Глаза у него были воспалены то ли от недавних слёз, то ли от длительной бессонницы.
– Суженый! Не смотри так печально. Я наконец совсем выспалась. И сил у меня… – Она обняла мужа за шею. – Давай поедем куда-нибудь. Сейчас оденусь, поснедаем[40] и… Девки!
– Погоди одеваться, – попросил Василий и присел на край постели.
– Но-но, князь! – засмеялась Анна. – Не нарушай теремного порядка. Сейчас время снедать. – Она ловко соскочила с ложа и, не найдя возле него своего наряда, побежала, пританцовывая, дурачась, к каморе, где висела одежда. Там быстро надела на рубаху красную клетчатую понёву, вышитый красной строчкой запон, хотела убрать косы под повойник, да вспомнила, что не умылась ещё, но всё-таки покрасовалась чуток перед зеркальцем, покусывая губы, чтобы краснее были, и приглаживая вздыбившиеся на затылке волосы, и наконец, довольная собой, выглянула в опочивальню.
– Ау! – игриво позвала мужа и помахала повойником, словно приглашая к танцу. Василий игры не принял, хмурый, продолжал сидеть на постели.
– Фу, какой скучный, фу, какой старый! – проговорила Анна без обиды и недовольства, принимая необычную строгость мужа тоже за игру: разве мог он хмуриться на самом деле в такой благодатный день. Направляясь к рукомойнику, она глянула в окно. Там, на воле, вовсю светило солнце, и целехонькая стена прямо-таки сияла под его лучами, никаких коз, конечно, и в помине не было.
– Мне такой странный сон приснился, Васенька, – сказала она раздумчиво с некоторым беспокойством, – а проснулась – и забыла, сейчас вот вспомнила, – и попросила, прежде чем рассказать: – Полей-ка, пожалуйста, на руки.
Василий покорно прошёл в угол, где стояли ушат и поливной, синий с бабочками кувшин. Под кувшином была лужица – он прохудился от старости. Но Анна любила его и не желала с ним расставаться. Придумала под него ставить медный таз, но его теперь почему-то не было.
Умываясь, она рассказала про дерущихся коз, о рухнувшей стене.
– Это очень плохой сон, – заключил Василий, – он сулит беду. – Василий протянул Анне рушник.
– Почему? – испугалась она – рушник провис на вытянутых руках.
– Тебе открылась борьба трёх главных сил на обломках Ордынского царства. Точнее, вернее, бесполезность, ненужность её.
– О чём ты, не понимаю? – Анна так и не вытерла лица.
– О золотоордынцах, москвитянах и о нас, грешных рязанцах: мы противоборствуем, а всё уже рухнуло, лишь сами себе увечья наносить будем в схватках. Одна коза рог себе сломала…
– Не говори загадками, не говори! – Анна затрясла мужа, уже понимая, что случилось.
– Я не могу, – Василий всхлипнул.
– Юрий! – Анна швырнула рушник в ушат. – Это я, я опять виновата!
– Прекрати винить себя! – зло сказал Василий и усадил её на скамейку, возле синего кувшина. – Не возвеличивайся попусту: что сделает слабая жёнка против рока, против набравшей скорость государевой колесницы!
– Мне нужно было кинуться под колёса… А я, я с иконой опоздала.
– Куда кинуться! Какие колёса! И смешно, понимаешь, смешно наделять кипарисовую доску сверхъестественными свойствами. Новгородцы-стригали давно уже не признают икон, даже апостолами писанных…
– Как можешь ты говорить о каких-то еретиках, когда у меня, у меня горе неизбывное! – Анна так стремительно поднялась, что Василий едва удержался на ногах.
– Ненавижу! – прокричала она ему в лицо. – Ты приносишь мне одни несчастья. Ты злой вестник! – и бухнула дверью.
Простоволосая, в рубахе и понёве, как простолюдинка, бежала Анна по саду, теряя разношенные постолы. Ей было всё равно, куда бежать, лишь бы скрыться от горя. Она не видела никого кругом, не разбирала дороги. А та вела прямехонько к Лыбеди, скрывающейся за кустами шиповника и лещины. Здесь, у реки, сад напоминал лес, не потому, что вертоградари обленились, – князю хотелось иметь вблизи от терема кусочек рощи. Это была наследственная прихоть. При Олеге Рязанском посадили в конце вертограда над Лыбедью дикие деревья и кусты, отчего зваться стал он садом. С тех пор и росли дубы, липы и ясени наперегонки, застили белый свет, выпрастывали из земли толстые и твёрдые корни. Они змеями вились через дорожку. О такой корень споткнулась Анна, и была подхвачена чьми-то сильными руками.
– Куда ты летишь, голубушка, сломя голову? – весело полюбопытствовал встречный и развязно-шутливо привлёк к себе. Анна подняла на него заплаканные глаза – перед нею был князь Пронский.
– Извини, княгиня, – смутился он, – не ожидал увидеть тебя здесь, в такой час… – и, говоря это, продолжал держать её в объятиях. Анна с удовольствием ощущала тепло его мускулистых твёрдых, надёжных рук. Это были родные руки – отца, старшего брата, из них не хотелось высвобождаться. Кольцо их смыкалось всё теснее – вот уж не отступить и на полшага. Она шагнула вперёд – и приникла мокрым лицом к рубахе князя. Уловила знакомый, любимый с детства запах душицы и чебреца, почувствовала упругую зыбь широкой груди и заплакала ещё безудержнее.
– Юрий, – бормотала она сквозь слёзы, – Юрия не стало. Я виновата.
Князь гладил её растрепавшиеся волосы, говорил ласково какие-то слова. Она не прекращала плакать и не слушала слов, они утратили смысл. Тогда князь разомкнул объятие, взял обеими руками её маленькую голову и крепко поцеловал в припухшие губы. Анна задохнулась в поцелуе. Оборвался плач. И вдруг чёрная лохматая собака кинулась на князя. Злобно рыча, ухватила за голенище сапога. Князь заслонил собою Анну, сказал собаке миролюбиво, чуть насмешливо:
– Уймись, глупая, ведь ничего ещё не происходит.
Собака послушно отступила, виновато вильнула хвостом.
– Надёжный страж у тебя, Анна, – усмехнулся князь, – лишнего не позволит.
– Страж? Да я этого пса вижу в первый раз. Вот и нет его! – И тут же почувствовала, как вместе с собакой ушло и доверительно-родственное чувство к князю. Стало стыдно за свой непозволительный для женщин порыв, за слёзы, а последнее замечание князя показалось оскорбительным. На что ещё рассчитывал Владимир, размышляла она, если поцелуй среди бела дня не посчитал событием, и соображала, потупившись, как достойно преодолеть возникшую неловкость. Князь стоял теперь на почтительном расстоянии от неё, когда успел отпрянуть и отойти, Анна не заметила.

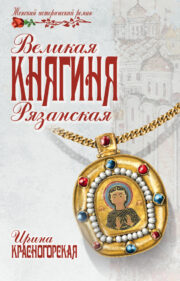
"Великая княгиня Рязанская" отзывы
Отзывы читателей о книге "Великая княгиня Рязанская". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Великая княгиня Рязанская" друзьям в соцсетях.