Среди тех, кого поспешно отпевал батюшка, не было воинов, знакомых князю, потому жалость не тронула его сердце. Конечно, огорчили потери, но это были издержки любого сражения. Сожалел, что меньше стало у него землепашцев, ремесленников и скотоводов (они во время набегов и превращались в воинов). Василий жалел об утрате части добычи: бездумно порушенных шатрах и повозках, порубленном скоте. В угаре битвы рязанское войско крушило всё подряд. Такое он наблюдал и в предыдущих своих, ещё московских походах. Василию казалось, он нашёл причину безжалостного уничтожения завоёванного добра: оно несправедливо распределялось. Военачальники завладевали почти всем. Простые воины должны были довольствоваться малым да сознанием того, что не пустили врага на свою землю. Размышляя, как всё это переменить, Василий шёл к большому шатру. Издали тот выглядел невредимым, Василий не собирался в нём останавливаться на ночь. Не любил чужих жилищ, а вражеских опасался. Ему казалось, что, покидая их, хозяева оставляют там зло, которое способно погубить нежелательного пришельца. «Может быть, и воины крушат всё вокруг, потому что тоже чувствуют забытое неприятелем зло?» – подумал он и едва не споткнулся. Шагах в двадцати от шатра, в высокой траве, лежали два тела – старика и мальчика. Оба были в дорогой татарской одежде.
Василий не испытывал жалости к врагам, не раз ему приходилось убивать их и, совершая это, он не воспринимал их людьми. Они для него ничем не отличались от зверей, которых он без сожаления бил на охоте. Отторгнутые от него расстоянием, незнакомцы теряли человеческий облик, превращались просто в цель. Её следовало поразить.
Как-то, возвращаясь с охоты, он увидел впереди крестьянку, которая устало брела по дороге. Она заметила охотников и заблаговременно уступила им путь, но не остановилась, а продолжала двигаться, ковылять, проваливаясь по снежной целине. Ему вдруг захотелось пустить в неё стрелу… Он устыдился своей жестокости. Поравнявшись с крестьянкой, взглянул на неё. Это была старая женщина. Она согнулась в низком поклоне, ещё дальше отступив от дороги. Василию показалось – сжалась от страха. «Боится, что собьём, – подумал он, – а ведь знает, что свои». А свои между тем сворачивали с дороги и в опасной близости проносились мимо старухи. «Озоруют, лихость свою друг перед другом выказывают», – решил он. Не остановил разгулявшихся, не подумал срамить их.
Убивший мальчишку тоже озоровал, опьянённый сражением, пиром всеобщей жестокости. Василию не хотелось сразу признать это. Оправдывая своих воинов, он предположил, что мальчишка – татарский пленник (он был на удивление белокур) и его при отступлении убил старик. Но в спине мальчишки торчал плоский конский топор, тем же топором прежде убили старика.
Василий приказал собрать дружину. Сам пронёс перед строем мальчишку. Виновного в его гибели доискиваться не стал. Призвал дьяка и продиктовал, ему указ…
Замолчав, Василий и вспомнил этот случай, но заговорил о другом, тихо и медленно, словно убеждая себя:
– Хорошему князю-хозяину надлежит растить прежде всего хлебопашцев, ремесленников. Это мой прадед Олег завещал своим детям-внукам. И сам уклонялся от ненужных битв, не разевал рта на чужой каравай, не в пример москвичам, о своём хозяйстве пёкся. Оттого-то Рязанское княжество и богаче Московского.
«Что он говорит? – удивилась Анна. – Почему Юрий не возразит ему?» А тот, вздохнув, согласился:
– У вас земли плодороднее.
– Земли землями, но князь Московский и скудными не гнушается: новгородцев стрижёт, как овец длинношёрстных, раз за разом. Чужих поселян разоряет, а из-за походов и свои лучше жить не стали. И у нас ведь есть соседи, – и с востока и с севера – но мы на их достояние не посягаем. Как не поймёт он, что управлять большим княжеством тяжелее, чем малым. Орда – тому примером: распадается матушка! Ханство Крымское, ханство Казанское, теперь вот Русь утекает.
Анна не могла понять Василия: не поддержал дядюшку, не стоял, оказалось, и на стороне Ивана.
– Соберёт братец огромную державу. Станет царём. А держава развалится.
– Когда это ещё будет, – усмехнулся Юрий.
– Когда-никогда, а рассыплется, потонет в крови.
И опять Юрий не возразил. Помолчали. Анна заворочалась, давая понять, что уже не спит, но собеседники не заметили этого, собираясь с мыслями. Юрий первым продолжил разговор.
– Мы должны объединиться против татар, – произнёс он уверенно, заученно, как не раз говорил младшим братьям. В Москве не прекращалась распря между ними и Иваном. Младшим надоело воевать и ничего не получать из добытого. Они так же, как и Василий, были против увеличения княжества. О ссоре братьев Анна знала от матери, но та не объяснила причины. Анна приняла сторону Ивана. Довод Юрия ей показался, как и младшим братьям, убедительным, но Василий возразил:
– Это всё отговорки! Лисий шаг! Объединяются за дружеской беседой в трапезной. А на поле брани какое объединение? Стань немедля моим другом, не то я тебе голову оттяпаю! – Василий засмеялся. У него был неприятный смех. Анна не любила, когда он смеялся. И смеялся он не чужим, а своим злым шуткам. Смех придавал его красивому лицу хищное выражение. Если он смеялся при людях, Анне было неловко за него. На Юрия, видимо, этот смех не произвёл такого впечатления, он пояснил миролюбиво:
– Наши соплеменники иной меры не понимают и готовы до скончания века, да что там века – света, жить под татарским игом.
– А чем для новгородцев, псковитян и рязанцев татарское иго хуже московского?
– Татары – басурмане!
– Ба-сур-ма-не, – Василий растянул слово, будто проверил на слух. – Басурмане. И кто определил, что их вера уступает нашей? – Василий опять засмеялся и сам ответил: – Такие же нечестивцы, как мы с тобой.
– Но-но! – только и произнёс Юрий, а Василий продолжал:
– Нам веру выбрали пращуры. Но правильно ли выбрали, ты задумывался? Кто выбирал, кто выбирал! Не учёные мужи, не жёны-мироносицы – воины в доспехах с обнажёнными мечами, княгиня Ольга, нещадно истребившая древлян. А ведь бабки-мамки в пример нашим жёнам её ставят. Те уже стесняются быть добрыми и жалостливыми. На казни глазеют с удовольствием, ребят с собой тащат. Чуть ли не на лобное место их сажают. Это супротивно природе! Злые женщины рожают злодеев.
– Ну это ты, брат, чересчур!
Василий не обратил внимания на замечание:
– Твари и те не выносят вида смертоубийства. Казнили однажды мужика. За дело казнили. Народу тьма-тьмущая собралась. Любопытно – княжеское семейство извести пытался. Палач на лобное место поднялся. Уж и топор вынул. Но тут кудахтанье раздалось – курица в ужасе из-под помоста выскочила, за ней – выводок. Улепетывают с верещанием от этого ужаса. А женщины детей на руки подняли. Так-то.
– А что же Указ?
– Указ? Пришлось его дополнить. Запретил жёнкам на казни смотреть и всякую скотину и птицу жизни лишать собственными руками.
– Перестарался – испокон веков женщины ножа в руки не берут.
– Сегодня не берут, завтра возьмут, коли запрета не будет.
– Так ты, не ровен час, и казни отменишь.
– Непременно. Уже и с епископом переговорил. Он поддержал.
– По ветру княжество развеешь. Не советую. Рано это.
– Ничего не рано! – не выдержала Анна. – Я тоже против казней. Я согласна с Василием – нельзя женщинам нож в руки брать. Топор – тоже. – Она вскочила с лежанки, стала за спиной у Юрия. Он поднялся, уступая ей место, но Анна не села.
– Ну против такой поддержки мне не устоять! – Юрий обнял сестру. – И не стыдно подслушивать?
– Подслушивать! Да вы так раскричались, что в мазанках слышали.
– Против ножа, значит? – переспросил Василий. – Но тебе, женушка, взять его придётся. Княгиня – не баба простая, чтобы доброй стать. У тебя же доброты – через край. Поутру курицу зарежешь и на снеданок[37] нам подашь.
– Не княжеское это дело – кур потрошить, – возразила Анна, не понимая, шутит ли Василий или от лихоманки заговаривается.
– Выпотрошит служанка, а зарежет княгиня. Или я…
– Мужа слушаться надо, сестра, – сказал Юрий строго, но Анне показалось, что строгость напускная.
Однако поутру ей всё-таки пришлось отправиться в курятник. Она села на порог его с пойманной курицей в руках, над большой глиняной миской. Курица рвалась, вертела головой, Анна едва удерживала её, а полоснуть по горлу ножом не хватало ни смелости, ни рук.
– Ах ты, тварь, – говорила она, – ах ты, тварь. – И слезы ярости и бессилия капали в миску. Поодаль столпились птичницы. Сопереживали.
– И чего мучаешься? Крови захотела? Так птичья не полезна. Барашка прикажу заколоть или телёнка, – говорила Ульяна, а сама уже держала несчастную курицу. – Подай нож!
– Эх, а ведь эта моя любимая пеструшка! – воскликнула она, когда с беднягой было покончено. – Кто надумал – под нож её?
– Так ить не несётся, – ответили птичницы хором.
– Другие несутся. Я покажу вам, как самоуправничать.
– Это я её поймала, – призналась Анна, – она в руки далась. Извини.
Княгини оставили курятник и пошли на чистый двор.
– Неладно как получилось, – винилась Анна. – Это всё Василий. От жара, видно, у него в голове помутилось. – Она рассказала о его странном приказе. – И ведь Юрий поддержал. А твой брат? Он бы вступился за тебя?
– Да все мужики одинаковы! Вступился, как же! Где он? Ускакал. Бросил меня в горе. Вы скоро уедете – с ягой этой, золовкой, останусь. Грызться будем – кто кого. Одна надежда – найдётся кто-нибудь на молодую вдову помоложе Григория Ивановича. – Ульяна захихикала, но не забыла перекреститься, прошептать: – Царство ему небесное.
– Сбегаем посмотрим, как розы укрыли, – продолжила она весело, – холода идут: вишь, как дым поднимается.
Подмораживало, хотя занимался день. К вечеру сковало землю, пошёл снег. Считается – настоящий снег ложится на мокрую землю, но этот не растаял. Скоро укрыл пашню и луговину, сровнял бугры и кочки, подготовил санный путь. После недолгих сборов гости покинули Мирославщину. Юрий в Переяславль не поехал. Расстались на постоялом дворе у развилки дорог.

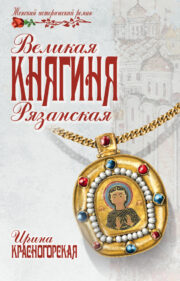
"Великая княгиня Рязанская" отзывы
Отзывы читателей о книге "Великая княгиня Рязанская". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Великая княгиня Рязанская" друзьям в соцсетях.