Еввулы в каморке не было, и в Милославском её не нашли. Когда и куда она исчезла, не знал никто.
– Какое бессердечие – оставить нас теперь, когда мы, когда ты нуждаешься в её помощи! – возмущалась Анна в покоях князя.
– Она нам ничего не должна, – сказал Василий. – Это мы ей по гроб обязаны. Меня же она сможет лечить и на расстоянии, так что успокойся.
Успокоиться после признания Юрия Анна не могла, но Василию о нём ничего не сказала, хотя Юрий и не брал с неё слова молчать. Юрий тоже делиться своими тревогами с зятем не стал, посидел у него немного и прошёл в соседнюю горницу к племяннику. Через открытую дверь Анна, сидевшая на низенькой скамеечке у постели мужа, видела, с каким удовольствием Юрий начал играть с малышом. Тот сразу залился счастливым смехом. Родители играли с ним редко. Василий считал, что воспитывать сына надо в строгости, и всё порывался сдать его на попечение дядьки, хотя сыну не было ещё четырех лет.
Анна не играла потому, что боялась утратить солидность. Юрию опасение супругов были не ведомы, и он от души забавлялся: став на четвереньки, катал племянника на спине, ржал, лаял, трубил в игрушечную трубу
«Неужели ему не суждено иметь детей?» – подумала Анна и не смогла сдержать слёз. Чтобы скрыть их от Василия, она уткнулась лицом в край его постели. Ей очень хотелось спать, но до часа, когда в тереме все отходили ко сну, было ещё далеко. Ночами она не высыпалась, приглядывая то за мужем, то за сыном, тревожно прислуживаясь к ночной тишине за стенами чужого терема. Ей казалось, он стоит на краю света – дальше полная опасностей неизвестность.
Глаза закрылись сами, хотя она и противилась…
И сразу перед её внутренним взором возникли какие-то покои, видимо, в княжеском тереме. Они были очень просторными, с тремя стрельчатыми окнами, забранными не слюдой, а настоящими прозрачными стёклами, с высоким сводчатым потолком (значит, над ними были ещё и другие), с большой двухстворчатой дубовой дверью. Такие покои могли принадлежать богатому владельцу – князю, епископу. Она только мечтала о подобных. Но обставлены они были очень бедно и странно. Вместо ковров на полу какое-то подобие кожи, потёртой и порванной; плохо выбеленные, без следов росписей стены. Побелка как на Милославских глинобитных теремках, перенёсших осенние дожди. Ни одной иконы! Вдоль стен – разновеликие обшарпанные поставцы, некогда дорогие – в дверцах стекло. За ним виднеются сваленные без разбору кипы книг или летописей в бедных переплётах. Перед окнами два простых стола, сдвинутых вместе. Столы чудные: на маленькие поставцы положены столешницы. Столешницы завалены какими-то мелкими вещами, назначение которых Анна смогла лишь угадать, прежде нигде их не видела. Какие-то круглые металлические, с неровными острыми краями не то чаши, не то маленькие короба, наполненные разной мелочью и сором. В одной чаше – будто маленькие гвозди, в другой – пепел, обгорелые с одной стороны, деревянные короткие и тонкие спицы (что на них вяжут?). Рядом с чашами что-то похожее на плинфу[35], ломоть хлеба и нож. А поблизости – дорогая норковая шапка. Что шапка – точно: такие носили очень зажиточные женщины в Москве и Переяславле, и у неё была похожая.
И увидев весь этот несуразный беспорядок (на столе, помимо перечисленного, громоздились ещё какие-то летописи), Анна едва не засмеялась, но смогла удержаться. Знала: засмеётся – и видение исчезнет. Видения перед сном у неё случались нередко, обычно когда уставала. Она тогда ещё не спала, слышала все ночные звуки, сознавала, где находится, и в то же время видела то, что в жизни видеть никак не могла. Как-то померещилась ей улица неведомого города. Каменные, островерхие, высокие дома, впритык один к другому, мощённая булыжником мостовая. Люди на ней в незнакомых одеждах, мужчины, даже старые (о чудо!) без бород. По улице, ловко минуя прохожих, мальчишка катил обруч. Наперерез мальчишке кинулась женщина в необъятной коричневой юбке, коротенькой душегрейке, в огромном, белом, крылатом повойнике. Поймала мальчишку, принялась отчитывать. Анна не слыхала слов, но поняла, что чужестранка ругает сына за то, что снял обруч с хорошей бочки. Догадалась и захохотала. Услышала свой хохот, а видение исчезло.
Видела она и отдельных незнакомых людей, но никогда не слышала их – уши воспринимали звуки реальной жизни. Каждый раз, как появлялись видения, Анне представлялось, что она заглядывает в ненароком приоткрытую дверь. Теперь же ей казалось – дверь в иной мир открыта для неё.
Внимательно всё разглядев на столах и не обнаружив для себя ничего любопытного, Анна стала ждать, что будет дальше. Поняла – не для созерцания чужого неряшества она допущена. Тотчас же на один из столов откуда-то сбоку плюхнулся свиток какой-то ткани. Женская рука (сама женщина оказалась вне поля зрения) поспешно сдвинула хлам со столов к подоконнику и развернула свиток.
Это была шитая на алом шёлке пелена. Собственно, алым был средник, широкая кайма вышита на белом. На среднике изображена Евхаристия (причащение). Анну поразило, что изображение поделено на две части, совмещает два действия, два времени. Такой приём принят в иконописи, в шитье ничего подобного ей не встречалось. Участники и того и другого действия разбиты на две группы. И в той и в другой присутствует Христос. В левой части средника он предлагает ученикам хлеб, в правой – вино. Да и склоняется к ученикам по-разному. Лики Христа и учеников показались Анне знакомыми. Но она не стала тратить времени на узнавание – спешила ухватить, получше запомнить общий строй этой удивительной пелены.
Узенькая кайма с какими-то письменами вокруг средника. На верхней – клейма. На них представлены житие Богородицы и четыре Евангелиста по углам. Анна не стала рассматривать клейма. Её словно торопили: «Скорее, скорее! На пристальный погляд время не отпущено». Её внимание привлекла шитая золотом надпись вокруг средника. Слова были выведены сплошным узором без промежутков. Она затруднилась их прочитать – прав Юрий: читать надо больше. Кто-то, вне поля зрения, пришёл на помощь и громко произнёс: «Шито 6993–6995 годах замышлением великой Рязанской княгини Анны…»
– Но сейчас только 6979 год! Я ничего не замышляла! – Анна не смогла смолчать.
– Пелене пятьсот лет, – ответил всё тот же голос, не то женский, не то мужской.
– И через пятьсот лет ничего не изменится, – добавил Юрий.
«Юрий! Откуда, здесь Юрий? Я ведь не сплю», – Анна открыла глаза. Она лежала поверх одеяла на лежанке у изразцового бока печи в одежде. Дверь в покои княжича закрыли. Юрий сидел подле Василия на той скамеечке, на которой только что сидела она, и тихо говорил:
– Жестокость, Василий, в натуре всех людей. Всех без различия. Нечего её связывать только с басурманами. Мы любим возмущаться ордынцами – изуверы, замучили благоверных князей Фёдора и Романа, погубили многие сотни людей… А сами, от князя до простого воина, алкаем[36] крови. Иван этим летом перед битвой на Шелони отдал приказ сжигать все новгородские селения и пригороды, не щадить ни стариков, ни младенцев. Что, кто-нибудь воспротивился и не стал выполнять? Нет, ещё дальше пошли в своей свирепости; уже без приказа стали отрезать у пленных носы и губы. Спросил, зачем это сделал, у простого воина, ответил – для устрашения, отпускают безгубых и безносых к своим. А пленные были земледельцами и ремесленниками. Над воинами измывались ещё гнуснее.
Юрий обернулся и тихо позвал:
– Анна! – Она не откликнулась, но он не решился всё-таки что-то произнести вслух и прошептал, склонившись к Василию.
– Вот я и говорю, – громко откликнулся тот, – есть ли во всех этих зверствах нужда? Устрашились ли новгородцы?
– Не знаю. Но озлобились люто и те и другие. Твориться стало такое – не приведи Господь. Однако понять их можно. Когда увечат, убивают твоего земляка, тем паче того, с кем рядом спал у костра не одну ночь, кто делился с тобой последним глотком воды, то сдержаться от возмездия трудно. На это тоже сила нужна.
– К Ивану твои объяснения не относятся, – запальчиво возразил Василий, – он у костра не спал, последней крошки ни с кем не делил. К тому же, кроме себя, никого не любит. Да! Он трус! И жестокость его от трусости. Я это понял ещё тогда, когда он побоялся Айвину с дерева снять. Готов был её там на ночь оставить приманкой для рыси.
Явная неприязнь Василия к Ивану была Анне в новинку, прежде она её никогда не замечала, думала, Василий боготворит старшего шурина. «Не подействовали, выходит, советы отца, не смог приручить Иван строптивого рязанца. Как же ошибся отец, как мы все ошибаемся», – подумала она.
– Грозным его прозвали, – продолжал горячиться Василий, – а надо бы трусливым. Всё за твоей спиной прячется. Ребята, молодцы, его раскусили, а ты всё на поводу.
– Уймись! – остановил его Юрий. – Анну разбудишь. Я не во всём согласен с Иваном и не ратую за жестокость, но не в моих силах унять её.
– Надо издавать иные указы. Иван указал: не щадить! Все подчинились. Опусти «не» – и все тоже подчинятся. – Я уже так сделал, – сказал Василий и добавил чистосердечно: – Проверить ещё не проверил, подействовало ли: с тех пор не было сражений.
– Едва ли подействует, – заметил Юрий с сожалением.
– Здесь случай особый, – пояснил Василий без прежней горячности и замолчал, то ли собираясь с мыслями, то ли не желая поведать об этом случае. Анна знала, что ему вспомнилось, что привиделось в это мгновение.
Ордынцы напали на юго-западные пределы Рязанского княжества, как всегда, без приказа хана, но, как всегда, с его ведома. Василий во главе своего войска выступил против них. За помощью к соседям не обращался. В битве, где у нападавших не было перевеса, им всё-таки удалось захватить знамя рязанцев. Довольствуясь этой добычей, они отступили к своему стану. Там их ждали повозки, шатры, а некоторых жёны и дети. Многие ордынцы жили и умирали в воинских походах. Получив отпор, эти вечные разбойники намеревались покинуть рязанские пределы, поискать более лёгкую добычу. С рязанцами они просчитались: сбила юность князя, его небольшой воинский и княжеский опыт – княжил он тогда года четыре. Василий отдал приказ захватить стан. Застигнутые врасплох разбойники, почти не оборонялись, оставили и повозки, и скот, и шатры. Рязанцы преследовали их до засечной черты. Потом вернулись к стану. Он представлял ужасное и в то же время привычное для каждого воюющего зрелище. Поваленные, изодранные шатры, изломанные повозки, трупы людей и лошадей. Лошадей убивали пешие воины, чтобы свергнуть всадника. Существовал для этого особый плоский топорик с длинным топорищем. Поверженные не вызывали жалости, даже земляки, – лишь досаду, что придётся их хоронить. Хоронили своих, не развозя по домам, погода не позволяла. Медлить с похоронами было нельзя: тучи ворон затмевали небо над побоищем, подбирались к телам псы. Их татары брали с собой вместо могильщиков. Русских, прежде чем опустить в ров, отпевали. Молодой, справный воин извлёк из котомки рясу и скуфью. Рясу надел поверх кольчуги, снял шлем, чтобы заменить его скуфьёй. Открылись его светлые, негустые, довольно коротко, «под горшок», стриженые волосы с выбритым на темени гуменцом. По этому гуменцу и распознавали священников, павших на поле боя. В бою они не отличались ни снаряжением, ни доблестью от прочих воинов и, чтя память инока Пересвета, нередко первыми начинали сражение. Василий уважал их.

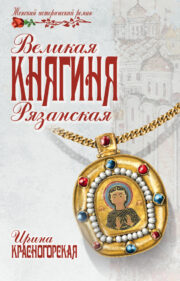
"Великая княгиня Рязанская" отзывы
Отзывы читателей о книге "Великая княгиня Рязанская". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Великая княгиня Рязанская" друзьям в соцсетях.