– Это я, я, матынька, виновата в их погибели! Или ты? Ты! Ты меня спасла ценою Марьиной жизни! Ты от неё отступилась! Ты её предала!
– Замолчи, дура! – Марья Ярославна оторвала от себя Анну, толкнула на постель. – Марья своё назначение на земле выполнила. И не смотри на меня рысью – я тоже, а потому отправлю тебя и уйду в монастырь. – Она присела рядом с Анной, погладила её по мокрой щеке. – Буду грехи замаливать. – И еле слышно добавила: – Боюсь, не замолю – много их накопилось.
В словах Марии Ярославны было столько горечи и раскаяния, что Анне стало жаль её и стыдно за свои упрёки.
– Как же мы со своими грехами жить будем? – спросила тихо.
– Ох, да какие у тебя грехи! Не нажила ещё…
– Я ведь, матынька, слышала, – сказала Анна в подушку, боясь поднять на Марию Ярославну лицо, – как женщина предупредила о заклятье.
Мария Ярославна молчала, Анна решила, что не поняла или не расслышала сказанного:
– Сказала, что должна умереть великая княгиня…
– Так я тоже великая княгиня, – усмехнулась Мария Ярославна, – а вот ведь жива, – и погладила Анну по спине. Принимая ласку, Анна поднялась, села, обняла мать за широкие, тёплые, надёжные плечи, почувствовав привычную с детства, никогда не подводившую её опору, спросила уже без страха:
– А кто эта женщина?
– Не было никакой женщины! – ответила Мария Ярославна поспешно и резко.
– Как не было? Я второй раз голос её слышала, и каждый раз она пророчила беду. Ты же сама ей отвечала…
– Со знахаркой я разговаривала, с жидовкой, матерью лекаря, Антоном вроде его зовут. Прибыл недавно из Литвы.
– Какой Антон, какая жидовка? Меня Еввула спасла! – возмутилась Анна и вскочила.
– К трапезе сзывают, – отозвалась Мария Ярославна обеспокоенно, – а мы ещё не прибраны – сарафаны помяли, да и косы придётся переплетать, – и, не давая Анне вымолвить слова, крикнула зычно: – Девки! Эй, девки!
Тотчас же открылась тяжёлая низкая дверь, и, глядя на фигуры возникших в её проёме сенных девушек, великая княгиня Московская громко и торжественно произнесла:
– Владычица Небесная тебя спасла, через образ Чудотворный Пресвятой Богородицы Владимирской.
И хотя Анна не сомневалась в могуществе Пресвятой Девы, ей показалось, что на сей раз Мария Ярославна взяла на душу новый грех.
Приближался день отъезда Анны в Переяславль, который в Москве в разговорах все называли Рязанью. Но прежде, чем оставить отчий дом, Анне захотелось увидеть матушку Ксению. Во время Анниной болезни они встречались не раз, но всё это было на людях. Анне же хотелось излить душу, укрепить волю – жизнь в Переяславле без мамки, без Марьиных неожиданных, коротких приездов её пугала, предстоящая встреча с Василием не радовала. Успокоение можно было бы, наверное, сыскать в монастыре, но путь туда для неё был заказан: монахинями княгини становились только после смерти своих мужей или по их воле.
Она отправила к Ксении посыльного договориться о встрече, и та сразу же приехала, прошла в Аннину девичью светёлку, куда Анна перебралась после неприятного объяснения с матерью. Светёлка была запущена и захламлена приготовленными к отъезду вещами. Но ничто в ней не переменилось со времени Анниного детства: всё те же были поставцы и лавки, всё те же пяльцы с натянутым на них куском полотна стояли у окна, а напротив, у стены, – стул с обломанной спинкой, рядом с ним, между поставцом и стеной, пылились сваленные в кучу потешки. Матушка Ксения уселась на поломанный, но единственный мягкий стул и потянула за овчинные волосы куклу.
– Надо же, мужичок! – радостно изумилась она. – А у меня все ляльки были только девицами. И в красных сапожках. Сама шила?
– Мамка, – ответила Анна и заплакала. – Почему, почему я такая несчастная, почему от меня ушли те, кого я любила?
– У тебя остались сын и муж. – Матушка Ксения протянула Анне куклу – мужичок был похож на суженого. Отметив сходство, Анна продолжала уже без слёз:
– Да. Но я их теперь боюсь любить, боюсь потерять их. А знаешь, матушка Ксения, ведь Марья погибла вместо меня. Матынька говорит, что Марья выполнила своё назначение на земле. Это не так. Её назначение состояло в любви. Она любила всех, и её любили. И у мамки было то же назначение. Оно ведь не прекращается с рождением детей, с молодостью, да и со смертью, наверное, тоже. А великая княгиня Московская считает, что женщина, как пчелиная матка, должна лишь производить детей. Родила сына – может не задерживаться на земле. И со мной, своей дочерью, возилась из-за наследника.
– Ах, детка, что ты говоришь, опомнись – какой прок Марии Ярославне в рязанском наследнике. – Матушка Ксения обняла Анну, усадила на лавку, села рядом. Она была ещё красивее, чем три года назад, и от неё чудесно, как прежде, пахло розовым маслом. – Не мучайся, не злобись на мать. Она в смерти Марьи не виновата. Да и нельзя умереть вместо кого-то. Это выдумки чернокнижников. Умирают за кого-то, и это святая смерть. Так умерла твоя мамка. А великая княгиня Мария Ярославна, конечно, лукавит: своё утверждение она опровергла собственной жизнью. И она, и бабка твоя Софья не только детей, сыновей рожали, но и княжеством управляли, помогали своим мужьям и сыновьям, недаром же отец твой завещал сыновьям слушаться материнских советов. Тебе бы тоже не мешало.
Она встала и отошла к окну. Там на подоконнике выстроились глиняные свистульки – легонечко свистнула в одну и продолжала, разглядывая петуха с взгромоздившимся на него всадником:
– Но это сильные, волевые, властные женщины. К сожалению, Марья не была такой и как супруга не подходила государю всея Руси. Чтобы быть по-настоящему великой княгиней, одной любви к ближнему мало. Иван теперь не мальчик и, надеюсь, понимает, что ему нельзя ошибиться в выборе невесты. – Она вдруг резко переменила разговор: – А ты почему меня ничем не потчуешь, или за гостью не считаешь?
Анна, смутившись, кликнула девушек, велела накрыть в светёлке стол. За трапезой матушка Ксения спросила о прочитанных книгах, об успехах Анны в верховой езде. Только в последнем Анна и преуспела за три года самостоятельной жизни и, понимая, как этого мало, стала лепетать о скотном дворе, о рыбных ловлях и лесных пасеках. Матушка Ксения снисходительно улыбалась и кивала, а потом спросила о рязанских иконниках. Анна не смогла назвать ни одного.
– А в Москве объявился чудный иконник, мирянин, Дионисием зовут, – сказала матушка Ксения с гордостью и улыбнулась каким-то воспоминаниям, – но горяч и необуздан, канонов не хочет придерживаться, да и церковные предписания не соблюдает. Недавно расписывал храм Рождества Богородицы в Боровском монастыре, так принёс туда, к ужасу игумена Пафнутия, на харч баранью ногу, жаренную с яйцами. Поверишь ли, не успел досыта наесться, как напала на него почесуха – всё тело в один струп слилось. Едва не помер. Хорошо игумен догадался, простил ослушника и повелел ударить в колокол – болезнь как рукой сняло.
Посмеялись над незадачливым Дионисием, Анна пожалела, что не успела увидеть его работ.
– Увидишь ещё, – уверила матушка Ксения, – навестишь свою престарелую бабку в Боровске или братца и посмотришь, да и в Москве его иконы есть. А я тебе сейчас покажу, как фряжские изографы пишут, – и она вынула из кармана рясы маленькую овальную иконку.
На ней была красивая, молодая, тёмноокая женщина в красном иноземном платье, с золотой цепью – ожерельем на шее и груди, с золотой сеткой на светлых волосах. Анна смотрела на неё, как зачарованная. Но не красота женщины её поразила – изображение было объёмным.
Матушка Ксения объяснила, что это не икона. В далёкой фряжской стороне принято изображать не только святых, но и обыкновенных людей.
– Только её обыкновенной никто не считает, – сказала она, – это едва не самая умная и образованная девушка на свете. Мы иногда с ней обмениваемся посланиями, через паломников, торговцев. Недавно она эту миниатюру прислала. Вот как надо писать, деточка, – и свет, и объём, и лицо совсем живое.
– Мне бы так! – вырвалось вдруг у Анны, вроде даже против её воли, и она испуганно замолчала.
– А ты попробуй, – улыбнулась матушка Ксения, – у меня не вышло.
– А это не грех – ведь не по канону? – оробела Анна.
– Так ведь не икону писать будешь.
– О чём это вы тут шепчетесь без меня? – лукаво спросила вошедшая Мария Ярославна. – И трапезовать не пригласили. Едва вас отыскала. Ты уж извини, сестрица, нашу сумасбродку – не сумела тебя принять как следует.
– Нет, Анна ни при чём. Это мне захотелось в девичьей детство своё вспомнить, – сказала матушка Ксения, расцеловавшись с хозяйкой. – Я Анне Зою Палеолог показала…
– Ну-ка, ну-ка! – с повышенным любопытством воскликнула Мария Ярославна, но Анне показалось, что образ прекрасной иноземки она уже видела. – Это Зоя, или Софья Фоминична Палеолог, племянница византийского императора Иоанна, за которым твоя тётка-тёзка была замужем, – пояснила Мария Ярославна Анне и взяла образ. – Красавица! Царевна. И по матери рода великого… – она запнулась, забыла чужие слова.
– Великого диксуса феррарийского Италийской страны, – подсказала матушка Ксения.
– Вот бы такую – начала Мария Ярославна мечтательно и осеклась, – такую – с тебя, Анычка, написать!
Но та поняла, что мать пожелала иного: «Вот такую бы жену Ивану», но не решилась об этом сказать. И ещё Анна подумала, как несправедливо быстро и легко уходит вслед за Марьей и память о ней. Неужели добро забывается быстрее, чем зло? Ещё и полгода не прошло после её смерти, а две близкие ей женщины уже думают о невесте для Ивана. И вдруг чувство неприязни – не к ним, а к незнакомой красавице в красном – поднялось в Анне, и она сказала презрительно:
– Как можно царевне быть такой толстухой!
– Откуда ты это знаешь? – изумилась матушка Ксения. – На образе этого не видно, однако Зоя и впрямь тучная, послы говорят…
– Красивая женщина должна быть толстой, – заявила Мария Ярославна и повела пышными плечами, – у толстых женщин морщин и после сорока нет, а худышкам ледащим в эти годы не только толстинки подкладывать под сарафан приходится, но и морщины замазывать. – Она засмеялась и коснулась своей щеки, на которой, несмотря на полноту, белил и румян было в избытке – московские женщины любили краситься и не знали меры, а княгини им в этом не уступали.

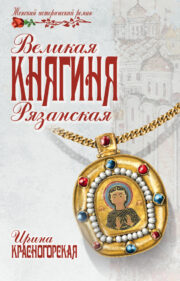
"Великая княгиня Рязанская" отзывы
Отзывы читателей о книге "Великая княгиня Рязанская". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Великая княгиня Рязанская" друзьям в соцсетях.