В тот день Анна стоически перенесла догадливо-лукавые взгляды приближённых, их одобрительное перешёптывание, уклонилась от мамкиных расспросов. И хотя словом не обмолвилась о Ледре, в Кремле её больше не видела. Но не могла избавиться от тревоги, а потому ни на одну ночь не покидала княжеского ложа. И хотя по-прежнему ничего не рассказывала мамке, та, понятливая и многоопытная, несколько раз нашла повод, чтобы утешить:
– Вот родишь ребёночка, Ласонька, и познаешь сладость мужниных ласк.
Князь же был вполне доволен.
– Почему ты сам меня не домогался? – спросила как-то Анна.
– Жалел.
– Жалел?
– Ну да, потому что всю жизнь люблю тебя. А это у меня никогда прежде не было связано с любовью.
– Никогда? У тебя были бабы, кроме Ледры? – удивилась Анна.
– Ах, зачем тебе знать это, Анычка! Ни с кем мне не было так хорошо, как с тобой, – и, утешив таким образом, Василий безмятежно заснул. Анна же не спала всю ночь, мучилась ревностью и размышляла, почему он не сказал «нет». Представляла своих новых соперниц, тех, кого следует впредь опасаться. Кто они? Молодые вдовушки-боярыни? Поселянки из ближайших деревень, из Шумаши, к примеру, куда так любил ездить князь? Искусные в любви татарки или лесные мещёрские девки, которые, говорят, в ночь на Ивана-Купала бегают нагими по лесу, прыгают через костры и совокупляются с кем придётся на лесных полянах под хохот леших и кикимор?
– Больше ты без меня никуда, никуда не поедешь, – сказала она спящему Василию и потрясла его за плечо.
– Угу, – отозвался он и натянул на голову простыню, – комары одолели.
Но сопровождать Василия Анне не пришлось: скоро выяснилось, что она понесла, и мамка не разрешила ей ездить верхом, да и вообще отлучаться с княжеского подворья, счастливый князь поддержал её.
– Сынок, будет наследник! – радовалась мамка, ощупывая Аннин живот.
– Сынок, непременно сынок, – уверяли самые искусные повивальные бабки.
Однако в Москве решено было их искусству не доверять. Мария Ярославна настояла, чтобы Анна ехала в родительский дом, где и стены родные помогают, и сделала это загодя (роды предполагались в середине апреля). Приехали за ней Марья и Юрий в начале марта, сразу после Нового года.
Во время долгих сборов Анна почти не видела брата и была рада этому: стыдилась своего огромного острого живота, который не желал упрятываться под широкий, нарочно сшитый мамкой сарафан, стеснялась безобразных пятен на лице, их почему-то повитухи запрещали замазывать белилами. Юрий тоже не искал с ней встречи и всё время проводил на половине князя, а потом они уехали оба на неделю.
«Им хорошо, – со злой обидой думала Анна, – изжога не одолевает, спину не ломит, не тошнит, оба красавцы – хоть куда! Собрались и, не сказавшись, уехали. Небось к бабам подались в Шумашь или к гулящим девкам в Скоморошью слободу».
– В Мирославщину поехали, – сообщила Марья, хотя Анна её не спрашивала. Марья ей впервые за многие годы дружбы надоела вдруг, утомила бесконечными разговорами и заботами, а теперь ещё и обижала своею осведомлённостью.
– Спорные земли решили посмотреть. А по весне поделить. И чего их делить – мы одна семья. Что ваше, то и наше. Иван сказывал, не сегодня завтра вся Русь единой будет, московской. Он бы и теперь прибрал к рукам супротивников, да ребята мешают – уросливы, драчливы, всё Ивану наперекор делают, только матушке и покоряются. Что же ты не спросишь о них?
«Ребятами» звали в семье двух Андреев и Бориса. Очень дружные между собой, они чуждались старших братьев и младшей Анны, и в детстве не занимали её – сопливые, скорые на проказы, шумные. Да и видела их Анна редко: воспитывались они дядьками, на половине матери не бывали, подолгу жили в Боровске у бабушки, материной матери, которая души не чаяла в них, особенно в Борисе. Отчуждённость с годами не уменьшалась, и говорить о них Анне не хотелось. А Марья, не дожидаясь расспросов, уже перевела разговор на другое.
– Ты не бойся, Лисонька, – говорила она, складывая в короб красные пелёнки, пестрые ленты свивальников, – ничего страшного: у справной бабы живот болит, как при месячных, а татарки вовсе без боли рожают. Да и я Ванюшечку легко родила. А если и помучаешься, то скоро забудешь – баба должна каждый год рожать. Таково её предназначение! – Марья назидательно подняла палец, подражая Марии Ярославне. Получилось очень похоже, и Анна засмеялась.
На сей раз об Аннином увлечении иконописью Марья не спросила: до него ли, когда предстоит главное женское дело, но и не только пелёнки-распашонки её заботили. Страшилась она очень конца света.
В том, что конец света неминуемо наступит, никто не сомневался. Не было единого мнения – когда. Предполагаемые ранее сроки счастливо миновали, православные облегчённо вздохнули – и назначили новый срок. Теперь он приходился на начавшийся 1467 год. И тому были важные предзнаменования. Во всех русских княжествах стало известно, что ростовское озеро две недели выло по ночам, а потом пошёл из него скрежет и стук. В зимних лесах то там, то здесь стали встречаться белые волки. Начавшие в феврале телиться коровы приносили телят о двух головах. Появлялись на свет шестипалые, а то и с волчьей пастью младенцы.
– Господи, как хорошо на белом свете! Как жить хочется! – возвратилась Марья к разговору о конце света уже в дороге.
Она сидела с Анной в одной кибитке, присланной из Москвы.
– А Иван в конец света не верит, – говорила она себе в утешение, – и готовит новые походы. Хочет на татар идти, – Мария перешла на шёпот: – Да, да! И Юрия – главным полководцем: он ведь очень храбрый, Юрий. В прадеда своего Владимира Храброго удался. Иван тоже храбрый, хотя ребята и винят его в трусости, говорят, что он всегда братьев подставляет. Он просто осторожный.
Анна безучастно молчала, а сидящая с ними мамка согласно кивала головой в полудрёме.
– «Государь всея Руси обязан быть осторожным», – это Иван говорил сам, – Марья на миг примолкла, подоткнула на Анне одеяло и, хохотнув, продолжила: – Юрий обходительный такой, я сказала, что ты стесняешься, вот он и держится от тебя подальше, а мне сказал, что беременные женщины прекрасны и тебе беременность особенно идёт. Ты спишь, Анычка?
Анна не спала, но и не слушала Марью, поглощённая неотвязными горестными думами. Чем ближе подходил срок родов, тем чаще появлялись мысли о возможной смерти, а по дороге к Москве они перешли в уверенность – ей не выжить. Недаром же пригрезилось на постоялом дворе: стоит она у высокой голой горы, а с неё сводят Марья и мамка старенькую бабушку Софью. Лица её наяву Анна не помнила, баба умерла, когда ей два года было, а тут сразу узнала, – она, Софья Витовтовна. Хоть и одета не по княжески – в крестьянский нагольный тулупчик, в грубошерстный серый платок и старые сапоги. Большущие сапоги, едва ноги в них переставляла и, стесняясь своей неуклюжести и беспомощности, виновато улыбалась и что-то бормотала.
Когда же приблизилась, Анна услыхала:
– За тобой, внученька, за тобой иду.
– Нет, нет! Ты же меня так любила – не забирай, – взмолилась Анна и с плачем проснулась, всполошила мамку. Та, узнав, в чем дело, успокоила – покойники снятся к снегу.
И действительно, за ночь навалило сугробы. Крестьяне вышли с деревянными лопатами расчищать дорогу. Потом, когда двинулся княжеский поезд, возницы то и дело выскакивали из саней, а тяжёлую кибитку не раз приходилось толкать, и каждый раз Юрий помогал Анне выйти, а Марья выскакивала сама и нарочно бухалась в сугроб и визжала, барахтаясь в снегу, мамка притворно сердилась. Воспользовавшись остановкой, ямщики и сенные девушки в конце обоза играли в снежки и тоже кидались в сугробы и визжали.
Анна смотрела на них с печальной завистью.
А вокруг красовался вековой зимний лес. Под снежным покровом деревья изменили привычные очертания и стали похожи на исполинские диковинные цветы, зверей, птиц. Но красота эта таила опасность. То и дело дорогу преграждали не выдержавшие роскошного, но тяжелого убранства старые ели, пригнулись под снежной толщей кусты орешника. Даже кряжистые дубы, силясь стряхнуть с себя нежеланный наряд, обломали ветки.
«И всё это я вижу в последний раз, – подумала Анна, – и уж для меня-то конец света обязательно наступит в апреле. И образ святой Евфросинии напишет кто-то другой. Ох, матушка Ксения, зачем я тебя послушалась».
Анне шёл шестнадцатый год.
– Ещё-ещё-щё-щё-щё!
Аннушка, да ухватись за рушник! Упрись, упрись, в меня ножками! Да не сюда – в грудь. Ничего ей не поделается. Господи, никак опять сомлела? Что же делать? Царица Небесная, помоги!
Княгиня Мария Ярославна, мамка, бабки-повитухи сбились с ног у постели великой княгини Рязанской Анны Васильевны.
– За Тимошкой беги блаженным. Да икону пусть принесут, Чудотворную Владимирскую!
– Так она же в соборе.
– Несите!
Внесли икону, тёмную, тусклую, византийского письма. В громоздкий оклад из серебра, золота и драгоценных камней была упрятана её дивная красота, лишь кисти рук виднелись и лики.
Вбежал Тимошка. Седые патлы на темени вздыблены, у висков срезаны наголо, руки прячутся в широких рукавах, ноги босые, сизые высоко заголены. Захлопал руками-крыльями, зазвенел цепями да колокольцами, хрипло закудахтал, потом зашёлся в надсадном кашле.
– Поди прочь! – прикрикнула на него Мария Ярославна. – За знахаркой бегите, за той, что Полуэктову пользовала. Где Марья?
– Прихворнула.
– Нашла время? Тогда ты беги, мамка.
– Басурманка она – грех.
– Грех отмолим – беги!
Анна лежала в забытье (час-другой? – никто не замечал времени).
Наконец явилась знахарка, высокая, тонкая, в тёмно-вишнёвом, как на иконах, хитоне, из-под его тускло-золотой каймы, на голове, выглядывал край яркой голубизны чепца. Таким же чистым и ярким оказалось нижнее платье знахарки, когда она скинула на пол хитон.

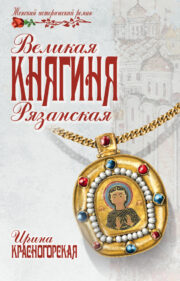
"Великая княгиня Рязанская" отзывы
Отзывы читателей о книге "Великая княгиня Рязанская". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Великая княгиня Рязанская" друзьям в соцсетях.