Это так. Но это не так! При любом уровне сервиса похоронить человека очень, очень трудное дело!
Особенно тяжело было хоронить Дашку – молодую женщину, мою ровесницу и сестру, мать двоих еще не взрослых детей.
Я помнила ее с раннего детства темноволосой девочкой с красными бантиками, крепкой, настойчивой, смышленой, умеющей постоять за себя. Я оказывалась слабее. Мы ссорились – я Дашку не любила. Теперь понятно: я не любила в ней сильного, неуступчивого человека, натуру непреклонную и цельную. Даже в детских играх Дашка подавляла меня. Сначала подавляла, а потом слегка презирала. За несерьезную специальность, за чрезмерное увлечение тряпками и особенно косметикой, за то, что к тридцати семи годам я не имела детей, семьи, нормальной работы. И я, уже взрослая женщина, робела под ее тяжелым, неодобрительным взглядом. Робела, но ни за что не хотела признаваться себе в этой робости. И даже потихоньку придумывала, за что бы можно было начать презирать мою сестру.
Никто из нас не искал сближения, никто не хотел сделать первого шага навстречу. Но раз я осталась в живых, значит, во всем виновата я.
С этими невеселыми мыслями я заходила в Дашкину квартиру. Для похорон нужны были вещи: платье, туфли, белье, и я надеялась найти их в Дашкином гардеробе.
В квартире царила музейная атмосфера: сумрак, тишина, запертые окна, приспущенные шторы.
Вместо того чтобы сразу же приступить к ревизии Дашкиного гардероба, я прошла в гостиную и осторожно, точно боясь кого-то вспугнуть или потревожить, опустилась на угловой бархатный диванчик у тяжелой портьеры, пропахшей старым табаком.
Я любила эту комнату с детства. Плотно заставленная разнообразной мебелью, буфетами, сервантами, горками с посудой, статуэтками, вазочками с букетиками сухих цветов, этажерками и шкафами, набитыми книгами, альбомами, старыми фотографиями, географическими картами, коллекциями минералов, бабочек и монет, теткина гостиная представлялась мне в детстве сказочным музеем, полным неразгаданных тайн. Я чувствовала: за всеми этими многочисленными вещами и вещичками скрывается нечто таинственное, сокровенное, и если посидеть просто так, тихонечко и незаметно, то наверняка откроется что-то неведомое и удивительное. И пожалуй, не было на земле для меня места более загадочного, чем эта гостиная. Ведь даже в самом скрипе паркета тут слышалась какая-то глубокая тайна.
Девочкой я часто бывала здесь. В гостиной мы подолгу играли с Дашкой и даже иногда, тайком от взрослых, предпринимали рискованные экспедиции по поиску каких-нибудь новых, еще невиданных вещей. Я помню, как мы несказанно радовались, когда выудили на свет божий из плетеного сундука старенький фотоаппарат-гармошку, медные весы и арифмометр. А однажды мы нашли таинственное устройство со стеклянным куполом и латунным колесом. Оказалось, это был вакуумный насос: если быстро крутить колесо, то под куполом создавалось безвоздушное пространство.
С годами я все реже и реже появлялась в этой комнате. Романтика старых вещей незаметно поблекла и потеряла свой шарм. Дашка жаловалась:
– Вещи нас вытесняют.
Представляю, с каким облегчением они с Вовой вышвырнули бы все это на свалку. Но, видно, так и не решились – в теткиной гостиной все оставалось по-прежнему.
Вообще, современный взгляд на старые вещи остро негативен. Со страниц глянцевых журналов и экранов телевизоров нам настоятельно советуют освобождаться от «ненужного хлама», потому что старая вещь несет в себе будто бы отрицательную энергию. Не знаю. Сейчас я тихо сидела в гостиной и вновь, как в детстве, чувствовала себя на пороге чего-то неведомого и загадочного.
Я никогда не оставалась здесь одна, как сейчас. Тетя Ира хотя и имела угрюмый и подозрительный нрав, в ее доме часто бывало много народу. Так, по крайней мере, бывало во времена моего детства. Тогда она с удовольствием принимала гостей, любила праздники и шумные застолья.
С углового диванчика мне открывался вид на всю гостиную, через раскрытые двухстворчатые двери просматривалась часть прихожей, тоже тесно заставленная книжными шкафами и полками, а дальше, наискосок, – теткина комната со множеством черно-белых фотографий на стене, на комоде, на пианино среди фарфоровых танцовщиц.
Фотографии… Они здесь повсюду. Даже в Дашкиной комнате. Тут так принято. Я снимаю с этажерки громоздкий малиновый альбом. И в нем тоже фотографии…
Вот Алексей Федорович Ермаков, теткин дед и мой прадед, чиновник военного ведомства, со своим денщиком. Оба в парадных кителях натужно глядят в объектив, опершись на бутафорский обломок колонны на фоне нарисованных греческих развалин. Под фотографией приписка: «Киев, 1912 год». Вскоре прадеда перевели в Екатеринбург. Там он женился на моей прабабке, Манефе Фроловне, дочери поставщика драгоценных камней его императорского величества, Фрола Иванова, владельца екатеринбургских шахт, где добывали малахит, александриты и уникальные, темные аметисты. Их свадебная фотография датирована 1914 годом.
Молодые зажили очень богато. У них был даже собственный дом в Петербурге, в котором они останавливались наездами, – трехэтажный особняк в сорок с лишним комнат. Вот только роскошью этой им не пришлось долго пользоваться.
Семейное предание гласит, что, провожая на войну своего зятя, Фрол Иванов подарил ему уникальный портсигар, украшенный аметистами. Прадед прошел всю войну, принял революцию, участвовал в Гражданской, вернулся здоровым и невредимым и даже сохранил подарок тестя. С тех пор считалось, что портсигар приносит счастье, и он бережно хранился как семейная реликвия.
В начале Второй мировой войны, провожая на фронт своего сына, моего деда, Сергея Алексеевича Ермакова, прадед по традиции вручил ему антикварный портсигар на счастье. Дед пронес его через всю войну, остался невредимым, дослужился до полковника, но портсигар 9 мая 1945 года, в день капитуляции немецких войск, бесследно исчез.
«Значит, войне больше не быть», – лишь рассмеялся мой дед, обнаружив пропажу…
Фотографии «древней истории» перемежаются с «новой». Вот на снимке сама тетка со своим молодым мужем Эдвардом и маленькой Дашкой. Приписка: «Привет из Крыма. Туапсе. 1976 год». Все в широкополых шляпах и белых одеждах на фоне скал и пустынного моря. Эдвард в распахнутой на груди чесучовой рубашке хоть куда – смугл, глядит орлом, атлетически скроен. Тетка, чуть смущенно улыбаясь из-под шляпки, нежно льнет к нему. И не заметно совсем, что она старше его на целых одиннадцать лет. Счастливая семья. Ничего не заподозришь. А ведь в Москве у тетки остался человек, которого она, с ее же собственных слов, любила безумно.
Много Дашкиных фотографий. Но все они скучные и невыразительные, точно сухой отчет о безрадостно прожитой жизни. И сама Дашка запечатлена на них с таким видом, словно только что ее оторвали от тяжелой и нудной работы.
Вот она в сопровождении тети Иры отправляется первый раз в первый класс. Белые банты, цветы, но из-за гладиолусов ее личико глядит не по годам сосредоточенно и серьезно… И сразу же – последний класс, последний звонок – сестра в нарядном, но неинтересном платье, прислонясь к перилам школьной лестницы, устало смотрит в объектив.
А тут Дашка, уже выпускница Ветеринарной академии, на апрельском субботнике стоит посреди какого-то чахлого скверика в тяжелом пальто со штыковой лопатой. Заслоняясь ладонью от жиденького, точно хворого, солнца, вымученно улыбается.
Нет-нет, сейчас мне хочется видеть ее исключительно радостной, беззаботно счастливой, чтобы именно такой и запомнить навсегда. Ведь были же у нее светлые минуты, скажем в семейной жизни. Пусть все так страшно закончилось. Но раньше… Ведь они прожили с Вовой почти двадцать лет. Дашка дорожила своей семьей, любила Вову, и семейную жизнь она всегда ставила во главу угла. «Для женщины семья – самое главное» – вот ее слова.
Я торопливо листаю альбом.
Ага, вот ее семейные фотографии.
Дашка с Вовой в Холщеве. Совсем еще молоденькие, прямо дети. Стоят на крыльце своего дома. Летний ветер треплет их волосы. Вечереет, по саду протянулись длинные тени…
Анталья… Дашка в купальнике, руки в боки, по колено в воде, подставила лицо восходящему солнцу…
На следующем снимке они с Вовой и маленькой Женькой в Крыму, фотографируются на феодосийской набережной в тени субтропической зелени. У Женьки на плече сидит забавная маленькая обезьянка…
А вот они всей семьей за праздничным столом в московской квартире. Дашка держит на руках годовалую Танюшку. Отмечают какую-то годовщину…
Я вглядываюсь в сестру, в ее позы, жесты, лицо, глаза – и делаю безрадостное заключение. Увы, с годами она не стала другой. Лишь ко всегдашней ее напряженной серьезности добавился еще тревожно наморщенный лоб. Даже на отдыхе или в моменты их с Вовой семейных торжеств. Она редко улыбается на фотографиях, но и в тех редких улыбках явственно сквозит беспокойство. Последние двадцать лет Дашка мучилась непрерывными страхами за детей, за Вову, за семью…
Фотографии мутнели и расплывались. Мне приходилось с трудом всматриваться в них. Я ненароком подняла голову и пришла в неописуемый ужас… За окном уже начинало темнеть!
Я поспешно захлопнула альбом, сунула его на место и стремглав бросилась к Дашкиному гардеробу…
Платьев у Дашки не оказалось вовсе. В скучном двухстворчатом шкафу в спальне висели Бовины костюмы – коричневый, серый, темно-синий в тонкую белую полоску. Здесь же болтался допотопный болоньевый плащ и нежно-голубое нарядное платье – то ли Дашкино свадебное, то ли Женькино выпускное.
В стенке нашлось несколько блеклых, невыразительных блузок, темные синтетические брюки и клетчатая юбка – явно для домашнего употребления. Ничего удивительного: к одежде Дашка была всегда вопиюще, вызывающе равнодушна. А в последние годы она плюс к тому страдала от хронического недостатка времени и сил. Из соображений необходимости прикупила вот этот темно-зеленый офисный костюм, да и то, видно, не долго выбирала – взяла первый попавшийся.

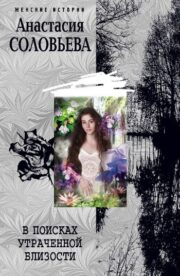
"В поисках утраченной близости" отзывы
Отзывы читателей о книге "В поисках утраченной близости". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "В поисках утраченной близости" друзьям в соцсетях.