В Бостоне легко представить, что мы с Гордоном знакомы с пеленок. Вспоминаем одних и тех же уличных музыкантов, одинаково хорошо знаем все забегаловки, где за долларов можно получить густую похлебку из моллюсков. Нетрудно вообразить, что мы с Гордоном не раз проходили вместе мимо этих лоточников. В каком-то смысле так оно и есть. Гордон вырос в Бруклине, неподалеку от улиц с такими благозвучными названиями как Чилтон Уэй или Линден Секл. Я считалась одной из лучших учениц в третьеразрядной средней школе, но умудрилась поступить в Бостонский университет, где штудировала науки, хотя теперь мне хочется, чтобы я занималась философией, как Виктор, который посещал гораздо более престижный университет. Но мне нечего было и мечтать о философском факультете. Я понимала, что сначала мне надо привыкнуть к новой лексике, научиться правильно произносить звук «р», наконец, доказать самой себе, сколь ценно изучение этого предмета; таким, как Виктор, это ясно с пеленок, доказательств не требуется.
Закончилась моя попытка получить высшее образование тем, что я оказалась на должности помощника ветеринара в пригороде Кембриджа. Провела там два года, научилась делать собакам специальные повязки, мешающие им зализывать свои швы, держать кошек, которым делают уколы, опускать в растворы пробы кала, чистить клетки кроликов и котят. Мне кажется, что как-то утром я видела Гордона в метро. Мы вполне могли оказаться рядом, притиснутые толпой к поручням вагона, когда поезд с грохотом проносился по туннелю под Чарлз-стрит. Или столкнуться нос к носу на одной из тех улиц, где мы побывали сегодня. Гордон мог зайти выпить пива в «Блек Роуз», или стоять вместе со мной в кучке зевак, глазеющих на танцоров «брейка», или по субботам покупать яблоки с тележек на Хаймаркете. Или мог привести Тош в ветеринарную лечебницу, зайти с ней в сверкающий белизной приемный покой для животных, где я провела, один Бог знает, сколько часов своей жизни, засовывая термометры в задние отверстия насмерть перепуганных, беспомощных баловней.
Стоим с Гордоном на улице, у кирпичного здания Хаймаркета и смотрим на выступление мима. Толпа завороженно следит за его пантомимой: он в ловушке, в комнате, из которой не может выбраться. На нем черно-белый костюм, только шапочка на голове ярко-зеленая. Мим не произносит ни слова, однако у меня такое ощущение, будто я слышу его голос. В своем безмолвном мире он со всех сторон окружен преградами, которые не в силах преодолеть; он сбит с толку, растерян, – и мне кажется, что его движения и жесты обращены именно ко мне и понятны мне, как никому другому. Не могу больше смотреть, отворачиваюсь. Поднимаю глаза к небу, которое покрыто прозрачными, как старинная ткань, облаками. Мим заканчивает свое выступление, раздаются аплодисменты. Его рот обведен жирной черной линией, поэтому кажется, что он улыбается, собирая долларовые бумажки.
Мы с Гордоном сидим на скамейке, выкрашенной коричневой краской. Вся она испещрена любовными признаниями: Френк любит Джулию, Мими хочет Бена, Т. Дж. плюс С. К. Кроме того, на ней номера телефонов, неуклюже вырезанные сердца, счастливая рожица шалопая. Пьем лимонад, купленный в киоске, где его приготовили прямо при нас. Мне от него холодно, дрожь пробирает до кончиков пальцев.
Я воровка, а потому сейчас мне несколько не по себе: боюсь, что Гордон пошарит в карманах моей куртки и обнаружит там всякую ерунду: блестящую вертушку на палочке, майку с утками, на груди которой белыми буквами написано «Бостон», пакетик еще теплых орешков, железное пресс-папье, по цвету и форме напоминающее вареного рака. Внешне я спокойна, мне наплевать на все, но в глубине души дрожу от страха: вдруг Гордон раскроет мой секрет и бросит меня прямо здесь, на улице.
Воровала всегда, с тех пор, как помню себя. Мне уже трудно представить, что некоторые вещи полагается покупать, платить за них деньги, так я привыкла их красть. Например, все мои сережки. Ворую пряности в бакалейном отделе. Ворую журналы в шоколадных барах. Сувенирные ручки в магазинах канцелярских принадлежностей. Краду то, что мне не нужно. Воровать то, чего очень хочется, без чего нельзя обойтись, – страшно. Другое дело – золотые цепочки, которые болтаются на пластиковом стеллаже ювелирного прилавка, – кто же откажется прихватить одну? Или дорожный электронный будильник, такой малюсенький, что запросто может затеряться в дамской сумочке. Я хочу сказать: а почему бы и нет? Почему бы не стибрить?
Вспоминаю все свои преступления. Понимаю, что это ужасно, и мне стыдно; но когда сворачиваем за угол булочной, прихватываю с лотка цепочку для ключей.
Виктор знает о моей слабости. Я украла как-то из прачечной рубашку, и мне просто повезло, что фамилия женщины была вышита с изнанки на воротнике. У меня новые приобретения: заводная игрушка – Дино из сериала о пещерном человеке и набор «Сделай сам». Виктор поймет, что мне все это ни к чему, и не спросит, а не украла ли я их. Он заметит и плитку шоколада, который я с удовольствием уплетаю, и насмешливо спросит: «Подарок?», а я в ответ молча кивну.
Моя привычка воровать доставляла немало хлопот моим родителям. Началось с того, что мама обнаружила неизвестно откуда взявшийся пакетик жевательной резинки в кармане моего пальто. Мне было тогда четыре года. Когда я подросла, мои кражи приводили в ужас отца, – особенно, когда я воровала, чтобы сделать кому-то подарок. Я ставила его в затруднительное положение: какое наказание придумать для дочери-школьницы, которая украла золотую зажигалку, чтобы подарить ее папочке на день рождения. Позднее, когда родители развелись, у меня появилось два разных дома ставших друг другу чужими папы и мамы, и я стала воровать вещи, перенося их из одной квартиры в другую. Любимую пивную кружку отца водворила на полку в кухонном шкафчике матери. Засунула записную книжку матери в корзинку для почты на письменном столе отца. Его зажим для галстука положила на мамину книжную полку, а ее пилку для ногтей – в его шкафчик с лекарствами; отцовский лосьон после бритья появился в ящике ночного столика матери. Мне хотелось соединить их, но вместо этого отец женился вторично. У него даже появился дом, самый настоящий дом, а не квартира. Когда я уже училась в старших классах, то украла ночную рубашку матери и повесила ее в шкафу нового отцовского дома. Его жена обнаружила ее, отец так орал на меня по телефону, что я боялась, как бы трубка не лопнула. После этого инцидента мои визиты в отцовский дом прекратились.
– Хилари? – зовет Гордон, прикоснувшись к моему плечу. Мы остановились на перекрестке. Заставляю себя вернуться в настоящее и извиняюсь, что отвлеклась. Гордону не нужны извинения. Ему важнее заправить мне волосы за ухо. Он симпатяга, не мешает мне подолгу молчать, как будто это непременное условие его пребывания со мной, – а вообще-то так оно и есть.
В ресторане «Дары моря» мы усаживаемся по разные стороны широкого стола. Перед каждым – тарелка «чаудера»[6] и кружка пива. Затеваем игру, по условиям которой надо постараться забросить кусочки моллюсков в тарелку противника. Я частенько промахиваюсь, попадаю, в основном, в Гордона. Он расспрашивает меня о семье, но я уклоняюсь от разговора, притворяясь, что это отвлекает меня от игры. Он, тем не менее, настаивает. Тогда я начинаю врать. Рассказываю, что у нас большая семья, сплошь одни девочки, а отец ведает погодой на четвертом канале. Рассказываю, что в двенадцать лет ездила в Испанию и с тех пор пристрастилась к паелле.[7] Рассказываю, что зимние месяцы проводила обычно в Бонаре.
– Ох, хватит! – прерывает меня Гордон, нахмурившись. Берет меня за руки и говорит: – Ты сбиваешь меня с толку, никак не разберусь, какая же ты на самом деле.
Направляемся в морской музей. Предложение исходило от меня. Мне не столько хочется посмотреть рыб, сколько избежать под этим предлогом дальнейших расспросов Гордона; ускользаю в купленное такой ценой молчание. Чувствую, что либо надо выложить все начистоту и признаться, какое смятение вызвал в моей душе этот, еще не начавшийся роман, либо не раскрывать рта.
Мне бы сказать: «Гордон, хочешь поговорить? Давай. Может, нам просто необходимо поговорить. Чувствую, что ты мне все больше и больше нравишься, но ведь я, как тебе известно, живу с другим мужчиной».
Но все это выглядело бы нелепо: яснее ясного, что Гордону известно мое положение, и сильно подозреваю, что он и без моей помощи разберется, стоит ли вступать в отношения с женщиной, которая связана с другим.
Или сказать ему так: «Послушай, Гордон, нам придется ограничиться романтическими отношениями, потому что я не собираюсь обманывать Виктора».
Однако, если я произнесу такое, то возненавижу себя на всю жизнь за то, что, приняв возможное за действительное, приготовилась к обороне, хотя никто на меня не нападал. За то, что переоценила себя. Неизвестно ведь, какие на меня у Гордона виды, хочет ли он спать со мной, а если и хочет, то хочу ли этого я? Страсть существует, но страсть можно обуздать. Гордон, во всяком случае, не делает никаких предложений, так почему я должна предварять события и говорить заранее «нет»?
И хочу ли я на самом деле сказать ему «нет»? Могла бы, – наверное, должна бы, – но весьма вероятно, что не скажу ни слова, а просто молча начну расстегивать блузку.
Когда не могу найти подходящих слов, чтобы правильно выразить свои мысли, или на ум не приходят слова, совместимые с правилами хорошего тона, я замолкаю. Тысячи слов теснятся у меня в голове, пока продвигаюсь мелкими шажками вдоль аквариумов, но нужных слов не нахожу. Язык прилип к гортани, с трудом выдавливаю из себя отдельные звуки, произношу: «Пожалуйста», но сама не знаю, о чем прошу: хочу ли, чтобы Гордон, как следует встряхнув меня, привел наконец в чувство, заставил бы что-то пообещать, или наоборот: хочу, чтобы он исчез, как вон тот голубой тунец, спрятавшийся между камнями в аквариуме, перед которым мы стоим.
Гордон поражает меня своей удивительной уравновешенностью: подходит поближе к аквариуму и наблюдает за рыбой. Внимательно читает надписи под каждым аквариумом, запоминает результаты научных изысканий бостонских ихтиологов. В настоящий момент изучает историю какой-то допотопной рыбины, чудом сохранившейся до наших дней. У него нет моих забот, я-то удрала в морской музей, чтобы избежать неприятного для меня объяснения, а сейчас целиком во власти мучительных раздумий: как лучше построить предстоящий диалог.

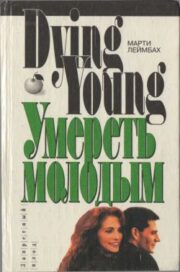
"Умереть молодым" отзывы
Отзывы читателей о книге "Умереть молодым". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Умереть молодым" друзьям в соцсетях.