– Так вот, послушайте, что случилось, – продолжает Кеппи. – Даже когда у евреев не было ни еды, ни питьевой воды, нечем было помыться, нечем перевязать раны, – даже посреди этого кромешного ада они делились друг с другом всем, чем могли. Отдавали, например, товарищу половину своей пайки или последнюю сигарету. Виктор рассказывал, что иногда более сильный работал за слабого, что матери, потерявшие детей, кормили грудью мужчину, который был так болен, что не мог есть грубую пищу.
– А вот этому не верю, – прерывает его Гордон, – готов держать пари, что у них и молока-то не было: уж слишком плохо они сами питались.
– Да что ты знаешь? Мастеришь там свои штуковины, – обиженно возражает Кеппи. – Замолчи и пей свой кофе. Виктор – гений. Передайте, милочка, ему мои слова, – обращается он ко мне.
Нам с Гордоном неловко.
– Не мастерю я ни «побрякушек», ни «штуковин». Мы производим игровые автоматы, – говорит Гордон.
Кеппи наклоняется к нам, его тень закрывает почти весь наш столик.
– Они делились между собой последним, все вместе страдали. А мы сейчас? Мы же пальцем не пошевелим ради ближнего, разве я не прав? Валяемся на пляже от восхода до заката, – вот и вся наша жизнь.
– Ты, видно, решил прочитать нам проповедь? – спрашивает Гордон. Но Кеппи не обращает на него внимания, он оседлал своего конька и не в силах остановиться.
– Всем нам будет хана, – говорит он. – Знаете, почему? Виктор объяснил нам кое-что, он рассказал, что никто, ни один человек из находившихся в лагере, не выжил в одиночку, без чьей-то помощи. Забота о своих товарищах была так же необходима людям, как еда, вода, лекарства или Бог. Виктор сказал: «Борьба за выживание – коллективный акт». – Для убедительности Кеппи стучит пальцем по столу. Будь он судьей, так замучил бы назидательскими указаниями и при каждом удобном случае пускал бы в ход судейский молоток.
– Виктор много читал об этом, – говорю я. При этом умалчиваю, что у Виктора есть майка с точно таким же лозунгом на груди. А на спине написано: «Сохраняй независимость, свобода предпринимательству». Перевожу глаза на Гордона, и у меня возникает желание защитить его. «Но почему, собственно, его надо защищать? – тут же думаю я. – На него никто не нападает». Кто на кого нападает? Сидим тихо-мирно, болтаем о том о сем с утра пораньше, – ничего особенного.
– Все это ерунда, – заявляет Кеппи, – повоевал бы, так на собственной шкуре убедился бы, что Виктор прав.
– Виктор не был на войне, – уточняю я.
– Верно, – соглашается Кеппи. – А он все равно знает. Вот так.
Ухожу от Кеппи в самом мрачном расположении духа, хорошего настроения как не бывало. Очень часто, когда еду в машине или заезжаю в булочную за французскими булочками, мне кажется, что Виктор стоит рядом, или сидит в машине за моей спиной, или заглядывает в окно. Ощущаю его присутствие каждую минуту, хотя в последнее время он не встает с постели. Как будто у меня перед глазами всегда его фотография. В самые неподходящие минуты передо мной возникает его лицо. И пока мы с Гордоном тащимся по причалу к его лодке, у меня перед глазами маячит лицо Виктора. Вижу, как он сидит на высоком табурете у стойки бара Кеппи, худые ноги скрещены, курит. Отчетливо вижу его кудрявые волосы, как они блестят в свете ламп. Вот он откидывается назад, набирает полные легкие воздуха и замирает, задерживая дыхание. Щурится, рассказывая о чем-то, речь льется свободно, слова точно подобраны, каждое бьет прямо в цель. Мне кажется, что он наблюдает, как мы с Гордоном устало бредем к лодке; лицо покраснело, уголки губ опущены, гнев клокочет в груди. Так я выношу себе приговор.
– У тебя сегодня много дел? – спрашивает Гордон.
Пожимаю плечами, огибая кучу песка.
– Хочешь от меня избавиться? – спрашиваю его.
– Нет, – отвечает Гордон. Останавливается на причале и поворачивается ко мне лицом. – Нет, не хочется с тобой расставаться. Но решил не говорить это прямо в лоб. А то знаешь, как бывает?
Про себя думаю: «Так хочется еще побыть с ней», а потом: «Может, у нее другие планы, и она ответит: «Не могу». Так лучше сначала спросить, свободна ли она». За тобой право выбора, можешь сказать что-то вежливо-неопределенное. – Гордон переводит дыхание. – Так как, Хилз, хочешь сказать мне что-то вежливо-неопределенное?
– Чувствую себя преступницей, – признаюсь я.
– Я же не уговариваю тебя сбежать со мной, просто хочу узнать, не занята ли ты. Нет ли у тебя, к примеру, желания немного развлечься?
– Мне так трудно принимать решения, – говорю я. Думаю о том, что Виктор постоянно упрекает меня за мою нерешительность; при этом он закатывает глаза, а я чувствую себя четырехлетней девочкой, которой выговаривают за испачканное платье. – А что значит «развлечься»?
Гордон в ответ смеется, и мне становится легче на душе. Я даже подхихикиваю ему. Пожимаю плечами.
– Я не шучу, – объясняю ему. – Я и вправду не знаю, что такое «развлечься». А ты знаешь? Серьезно, Гордон, а ты придумал «развлечение»? Придумал, чем нам заняться?
– Да, – говорит Гордон, – у меня есть неплохая идея.
Глава II
Паром, на котором я ни разу не ездила, отправляется из той части города, которая называется «Пембертон», и по расписанию через сорок минут должен прибыть в Бостон. Сколько раз утром слушала я гудки этого парома и изучала расписание по длинным полосам дыма, тянущимся из его трубы. Мы с Гордоном отправляемся с одиннадцатичасовым, сидим на верхней палубе в полном одиночестве, что не удивительно: ветер дует с такой силой, что ни один здравомыслящий пассажир не рискнул устроиться в цветных пластиковых креслах, ряды которых расставлены на деревянном настиле палубы. Гордон спрятал руки в рукава свитера, а я подняла капюшон своей куртки.
У нас на двоих один пакетик шоколада в разноцветных обертках, мы купили его в кафе, собираясь в путешествие, и я занимаюсь дележкой сладостей.
– У-у-у, мне в коричневой обертке, – просит Гордон, – а ты возьми в желтой.
Он смотрит вдаль, всей грудью вдыхая морской воздух. Гордон получает удовольствие от любой погоды. Сам рассказывал, что весной совершает дальние походы в горы. Занимается серфингом на острове Нантаскет. Накануне показывали по телевизору документальный фильм о любителях дельтоплавания, так я была уверена, что увижу среди них Гордона: вот он прыгает со склона горы и под гигантскими крыльями воздушного змея плавно парит в воздухе.
– Как прекрасна Новая Англия, когда сияет солнце, – говорит Гордон, глядя на небо.
– Когда солнышко сияет, конечно, только его что-то не видно, – замечаю я.
– Да ты только посмотри на небо: чайки, солнце. Великолепно. Небо затянуто белесой дымкой. – В тот момент, когда Гордон произносит «Великолепно», солнце окончательно скрывается за набежавшим облаком.
– Ты поспешил, Гордон, вот и спугнул его.
– А теперь посмотри, как красиво: эти стальные поручни на фоне бушующего моря, чайки парят в темном небе, маяк мерцает вдали, ветер. Как замечательно! – восклицает Гордон.
Смотрю в том направлении, где нос парома, и сама себе не верю: неужели я приближаюсь к Бостону. Сколько недель, можно сказать даже – месяцев, мечтала я снова очутиться в Бостоне. Так и стоят перед глазами кишащие людьми улицы, фонари вдоль набережной, Административный центр, Копли-сквер, ресторанчики, куда я заходила с друзьями перекусить после работы. Представляю себе, чем могла бы заниматься в эту самую минуту в городе: может, обрезала бы лишние ветви на живой изгороди у своего дома или сгребала бы в кучу опавшие листья. Интересно, какая иллюминация будет в этом году на Рождество на Коммон-плейс, замерз ли пруд, можно ли кататься на коньках? Обнаружили или нет обитатели моей старой квартиры, что на кухне не хватает кафеля? И что разрезана сетка на окне? И тот же ли запах в аптеках?
– Ты замерзла? – спрашивает Гордон.
Еще как. Нижняя губа потрескалась, а я не могу удержаться: все время ее покусываю. Гордон обнимает меня за плечи.
– Хочешь спуститься вниз? Там есть столики и теплее.
Я боюсь пошевелиться, чтобы не спугнуть Гордона, – как больная, которой в вену введена трубка. Я словно застыла под тяжестью руки Гордона и вполне могу сойти за труп.
– Возьми еще конфетку, – предлагаю ему.
– Только не давай красных, от них, говорят, может быть рак.
– А в красных обертках больше не выпускают. Между прочим, рак от всего бывает, – говорю я, облизывая нижнюю губу. Она так обветрилась, что болит. Повернувшись к Гордону, смотрю прямо ему в глаза. – Мы с Виктором перечитали кучу книг по медицине и о рациональном питании, да еще брали в библиотеке кой-какие статьи. Изучили все это, а потом выписали все канцерогены. Почти целую неделю только этим и занимались. Точнее, дня четыре, – кажется, так, а список наш все еще был очень неполным. Потом сделали аналогичный список всяких хозяйственных предметов: шампуней, освежителей воздуха. На это ушло два дня, – но к тому времени мы уже кое в чем разобрались. Ты знаешь, что я до сих пор боюсь пользоваться дезодорантом? Меня убедили, что от него бывает рак груди.
– Серьезно?
– Кто знает наверняка? – отвечаю я. – Вот на мне куртка, так весьма вероятно, что ткань, из которой она сшита, канцерогенна.
Гордон встряхивает конфетки, которые я высыпала ему на ладонь. Перетряхивает их, выбирая те, на которых буквы «М» белого цвета.
– Отвратительная тема для разговора, – заявляет Гордон.
– Меня она не пугает. Мы с Виктором постоянно обсуждаем все эти вопросы. Ты ведь не куришь, правда? А я по вечерам засиживаюсь допоздна и курю.
– А днем – нет? – спрашивает Гордон.
– Как правило, – нет.
– Ты – тайная курильщица, – поддразнивает меня Гордон. Слегка улыбаясь, выдвигает вперед нижнюю челюсть, а я любуюсь выражением его лица. У Гордона великолепная мимика; у него большой рот, и уголки губ, то поднимаясь вверх, то опускаясь, ежесекундно придают его лицу новое выражение. У него гладкая кожа и прекрасной формы нос.

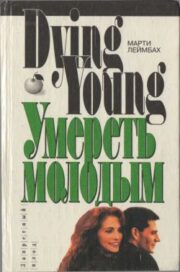
"Умереть молодым" отзывы
Отзывы читателей о книге "Умереть молодым". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Умереть молодым" друзьям в соцсетях.