– Понимаешь, мне кажется… – продолжала Вера, глядя куда-то в сторону, – стараясь отъединиться от меня сознательным волевым усилием, ты как бы перерезал незримую пуповину. Ты сам вытеснил меня из своего поля. Выключил кнопку, и свет мой потух. Меня не стало… И тогда… Ожили, завибрировали те незримые нити, которые всегда так много значили для тебя… Ты сам стал локатором, исследующим собственное подсознание… Это произошло само собой, невольно и неожиданно. Твой локатор нащупал живые токи, энергию, поле того человека, с которым тебя долгие годы связывала самая тесная связь. Токи Ольги. Она почувствовала твой зов и явилась. Она проросла сквозь меня – прошла сквозь мой образ и оттеснила его. Она сама заняла мое место. Потому что, как говорил твой… то есть мой отец: творчество – это пространство магическое. И никто не знает, что подвластно ему. Ведь говорят же, что портреты, в которые художник вложил все свои силы, всю душу, – живые. Они живут собственной жизнью и воздействуют на людей, которые соприкасаются с ними. Когда я повстречала тебя, мне это стало так понятно! Поэтому в происшедшем нет ничего удивительного. Ты вышел в иное пространство, когда писал мой портрет… И это пространство ответило на твой неосознанный, негласный вопрос: жива ли твоя жена? Так вот, она жива! Это для меня ясно как божий день. Впрочем, думаю, что это больше не вызывает сомнений и у тебя самого…
Вера замолчала, внимательно разглядывая носки своих туфель. Алексей, совершенно ошарашенный и, без сомнения, убежденный в ее правоте, с минуту стоял, невидящими глазами глядя на Верин злосчастный портрет. Потом, словно его ужалили, кинулся одеваться. А Вера, поглядев на него, поняла, что лучше на некоторое время оставить его одного. Она неслышно прошла на кухню, взяла сумку и, плотно прикрыв дверь, чтобы та не хлопнула, вышла во дворик, залитый закатным солнцем.
Москварека сибаритствовал, попивая шампанское вместе со своей маленькой тихой женой. В углу их кухни стояло штук пять пустых бутылок, а на столе еще две початые. Значит, подумала Вера, где-то еще пяток прячется! Если уж Москварека покупал шампанское, то никак не меньше дюжины. Этот напиток он страстно любил.
– Веру-у-ша! Давай, садись! Как там на даче, небось уже огурцы зреют?
Его жена Марья, ни слова не говоря, улыбнулась Вере, довольно прищурившись и разомлев от шампанского, и поднялась, уступая свой стул. В мастерской Москвареки число посадочных мест никогда не менялось – их было два! И это был Шурин принцип: два стула хозяевам, а остальным гостям – все оставшееся пространство. У них собиралось иногда до сорока человек, и хозяин и в мыслях не мог допустить, чтобы кому-нибудь не хватило стула… Потому закон был для всех один – пристраивайтесь, где душа пожелает! Один из его приятелей, фотограф Шутов, с первого же визита облюбовал высоченный трехкамерный холодильник. Как он умудрялся туда забраться – уму непостижимо… Как правило, Шутов проделывал свой трюк незаметно для остальных, а потом восседал на королевском возвышении с бутылкой в руках, с философски-многозначительным видом взирая сверху на суету сует…
Вера, так же молча улыбнувшись Марье, села. Взяла предложенную чашку с шампанским. И одним махом выпила. Ей сейчас просто необходимо было снять напряжение.
– Шур… – замялась она.
– Все ясно, не надо грязи! – Эта поговорка Москвареки всегда отсекала любые попытки друзей пространно и с извинениями излагать свои нужды. – Сколько надо? Стольник?
– Да, думаю, сто тысяч нам хватит.
– Дура! – ласково наградил ее Шура, подливая еще шампанского. – Каких тысяч! Разве ж это деньги?! Долларов!!!
– Нет, Шуринька, сто долларов – это много. Мы не сможем скоро отдать, – с твердостью возразила Вера. – А сто тысяч – дней на пять – для двоих более чем достаточно… Чего там, нам ведь много не надо. Картошка, яйца, чай да хлеб… На оптовый рынок съезжу, возьму чего-нибудь посущественней… Окорочков или мяса. Правда, я рассаду хотела купить, – вспомнила Вера о своем затаенном желании вырастить собственные помидоры. – Ну ладно, обойдусь без рассады.
– Слушай сюда, подруга! – привстав, наклонился над столом Москварека, едва не касаясь ее лица чернявой густой бородой. – Внимательно меня слушай! Мужику твоему сейчас круто… очень круто приходится. Потому что… я это знаю! И еще я знаю то, чего ты не знаешь. И он не знает… пока! Три работы его, что на осеннюю выставку отобрали, завернули обратно. Мне Танька Ставронская вчера про это сказала, а она все знает. Она же в ЦДХ работает… Вот так!
Москварека залпом проглотил кружку шампанского и тут же разлил всем снова. Поглядел на свою довольную и раскрасневшуюся жену, крякнул и шутя стукнул кулаком по столу.
– А ну, баба, проваливай! Ишь, расселась. Не видишь, у нас с Веркой мужской разговор… На вот тебе. – Он вынул из кармана джинсов тугую пачку долларовых двадцаток и сунул сколько-то Марье не глядя. – Пойди купи еще шампусика. Сколько в пузцо твое влезет. И этих еще… апельсинчиков.
Марья послушно поднялась, не переставая лукаво и радостно улыбаться, взяла просторную джинсовую сумку и устремилась во дворик, навстречу шумливым и деятельным улицам московского центра.
Москварека разом посерьезнел и отринул шутливый свой тон и излюбленное балагурство. А Вера взяла сигарету и, прикурив, почувствовала, что пальцы ее дрожат.
– Он ведь на эти картины рассчитывал… – с обидой в голосе заговорила она. – Ты ведь знаешь, это выставка-продажа. Он был уверен, что хотя бы одну из них купят. И приятель наш – галерейщик – обещал посодействовать. Рекламу сделать. У него вроде американец есть один… Собирает современную русскую живопись.
– Ну так вот, ничего этого осенью вам не видать! Ты прости, Веруня, что я на тебя обрушился… Как из ушата холодной водой… Только лучше всю правду знать, ты как думаешь? – И, не дожидаясь ее ответа, он поднялся, достал из-под стола новую бутылку шампанского и откупорил ее, обдав весь стол пенной струей. – Во как! Видишь, холодильник наш вконец перегорел. Теперь где Шутову восседать, а? То-то и оно – надо новый холодильник покупать. Ладно. Ты, Веруня, пей шампусик – от него душа проясняется…
– Надо мне, Шура, идти. Я ведь к тебе на минутку – только денег…
– Не на-адо! Не надо грязи! – перебил ее Москварека, протягивая пять двадцатидолларовых бумажек, предварительно извлеченных из потрепанной книжки Ремарка, лежащей на полочке.
– Шура, я не могу…
– Молчать! – снова бухнул по столу Шура, не давая ей и рта раскрыть. – Я с тобой не в бирюльки играю – я дело говорю. Так вот… Слушай сюда. Слушай и не перебивай. Я знаю, что у Алешки долгов уже – во! – И он выразительно провел ребром ладони по шее. – Он тебе дачу купил? Купил… Машину, скажешь, продал… Х-хе-е-е… Одной машины только на крышу хватило! Знаю, сколько он отвалил. Порадовать тебя хотел. И на осеннюю выставку, знаю, рассчитывал. Что из этого получается? Получается то, что мужик твой психует! И психует он, еще не ведая о том, что вылетел с осенней выставки, что надеется понапрасну. А дальше как? Ему сейчас крепко на ногах стоять надо – ты у него! Любит он тебя, бля буду, Шура зря слова не скажет, ты знаешь! Никогда я его таким освещенным не видел, а мы с ним кукуем тут вот уж двенадцатый годок. С самой шальной нашей юности – как Строгановку окончили. Ну вот. Сорвется мужик, замечется – все, почитай, хана вашей любви. Не выносит она нищеты, хиреет, дурнеет и хрен знает на что похожей становится! А от нищеты у некоторых бешенство делается. Драки, ор, канитель… А-а-а! – Он махнул рукой, махнул – как отрубил. – Ты думаешь, какого черта Москварека время свое драгоценное на этикетки тратит. Вот они, посмотри…
Он рывком поднялся, схватил Веру за руку и поволок в мастерскую. К стенам были прислонены громадные – метра три на два – холсты, натянутые на подрамник. На одном была увековечена колоссальная этикетка минеральной воды «Ессентуки», на другом – «Боржоми». Все буквы, все цифры, даже ГОСТ, даже дата изготовления – все отобразил художник-реалист недрогнувшей рукой.
– «Боржоми» продал вчера. Завтра итальяшка мой за ним приедет. Вот и гуляем… Пошли!
Они вернулись на кухню, и Вера начала уже не на шутку нервничать – они тут разговоры разговаривают, хоть и дельные, шампанское пьют, а Алешка… В плохом состоянии она его оставила. Ей нужно немедля возвращаться к себе в мастерскую.
– Вижу, сидишь как на иголках. Уважь, Верка, Москвареку, посиди, пока благоверная моя не вернется. Мне и самому хреново. Я, может, никому не говорил еще то, что тебе скажу. Думаешь, если б не Марья, стал бы я этикетки лудить? Во-о-о, в том-то все дело! Она у меня вон какая: вспорхнула и полетела. Хочет – пускай шампусика купит… Хоть два ящика! Хочет, пускай бирюльки какие-нибудь. Она серебро всякое любит. Чтоб звенело… Ну вы, бабы, все такие! Лишь бы напялить на себя черт-те что и звенеть побрякушками… А наше мужиковское дело – чтобы вам ни в чем никаких препятствий не было. Гуляй, душенька! А завтра к Богу пойдем… Не помню, кто это сказал… Кто-то в начале века. Розанов, что ли… Ну вот.
Москварека мотнул головой, то ли подтверждая только что сказанное, то ли протестуя против него… Поднял на Веру медвежьи глаза. В них стояли слезы…
– Милые вы наши бабы! – Он стукнул кулаком по столу, опрокинув свою чашку с шампанским. Тут же смахнул тряпицей лужицу со стола и методично налил еще. – Ты думаешь, мужику легко вынести, когда он красоту-то свою, жену любимую, изукрасить еще поболе не может… Тряпками, побрякушками, цветуечками… Дачами! Да у него скорей душа разорвется. Или сопьется вконец… А у твоего крутое время настало, ох крутое, Верка! Испытание ему дано крепкое. Денег не будет у вас. Он ведь не я – продаваться не хочет. И не продастся Алешка твой, даже ради тебя! За это ты его небось и любишь… А, романистка? Ну ладно. Он с дорожки своей не свернет – будет нетленку свою лудить. А те, кто нетленку лудят, они за это дело, за веру свою страшно платить должны. Хорошо, если к старости признают его работы… Хорошо, если галерейщик заезжий западный его разглядит или еще кто… Только это дело случая. А на случай вам вдвоем полагаться нельзя. Разорвет вас жизнь… на две половинки. Не сдюжишь ты, Верка, хоть баба ты и не из слабых. Слабину дашь… А он сломается.

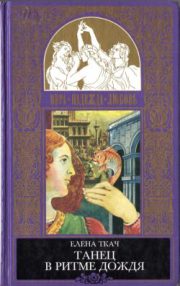
"Танец в ритме дождя" отзывы
Отзывы читателей о книге "Танец в ритме дождя". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Танец в ритме дождя" друзьям в соцсетях.