Вера и сама не знала, почему она вдруг с необыкновенной ясностью поняла это. Это понимание обрушилось на нее вместе с первыми тяжелыми каплями дождя, упавшими на землю.
Вскоре начался настоящий ливень. Он с яростью колотил в стекла закрытого тотчас окна, будто подхлестывал, подстегивал: действуй, действуй! Не сиди сложа руки.
И она заспешила, заторопилась. Она решила немедленно, несмотря на дождь, ехать в Москву. К Алексею. Что-то грозит им. Что-то, чего Вера не знала. Но эта угроза была не меньшей реальностью, чем страшная туча, закрывшая горизонт.
2
По дороге в Москву Вера лихорадочно соображала, куда ей сейчас: в мастерскую или домой, в Хлебный переулок, где Алеше достался от отца первый этаж небольшого старинного особнячка. Этот дом Вера полюбила с первого взгляда: его степенность, покой, отстраненность от смутного, суетного мира за окнами. Его уютную, можно сказать, одушевленную мебель красного дерева. Здесь каждый предмет не только был прекрасен и совершенен сам по себе, не только помогал человеку существовать, – здесь все порождало особое состояние, настраивало на волну чрезвычайно чуткого восприятия. Вечерами казалось, что выражение лиц на старинных портретах меняется. Они то хмурятся, то ухмыляются… а то проясняются. Или смеются. Здесь все предметы жили своей жизнью. Исчезали внезапно, а потом появлялись вновь… В этом доме Вера ничему не удивлялась. Она только испытывала трепетный, благоговейный восторг перед миром умных вещей, живущих своей самостоятельной жизнью и незримо воздействующих на человека. Да-да, воздействующих! Об этом ей говорил еще Алешин отец, Владимир Андреевич Даровацкий, буквально за месяц до смерти. Он рассказывал ей об этом еще тогда, когда она впервые переступила порог этого дома, чтобы взять интервью у известного архивиста и реставратора, каким являлся хозяин дома.
Да, в Хлебном душа оживала! Но частенько им с Алешей приходилось жить в мастерской – однокомнатной квартирке, затерянной среди других мастерских в закуточке двора близ Петровки. Алеша в последнее время очень много работал, как будто спешил доказать Вере, что он все успеет: и сотворить свою красоту, и заработать на хлеб, и прославить фамилию… Он был очень талантлив, Вера иногда замирала от восхищения, глядя на его работы. Но еще больше ее воодушевлял сам процесс. Алеша и так был хорош, а за мольбертом он становился прекрасен как герой романтизма: вдохновенный, горящий, страстный, превозмогающий мелочную обыденность, соприкоснувшийся с иным бытием, открытым только ему…
И в последние дни он спешил закончить ее портрет. О Господи, как пугал Веру этот портрет! Он был для нее чем-то вроде портрета Дориана Грея. Только тот воздействовал на личность своего творца, художника, а этот… Он незримо влиял на них обоих. На их любовь и судьбу. Интересно, видел ли сам Алексей, что под его кистью оживала совсем не Вера… Или он предпочитал этого не видеть, не замечать. Ведь не мог же он сознательно сотворить двойной портрет, в котором слились бы воедино две женщины: Ольга и Вера! Это было бы ужасно… Нет, не ужасно – не то слово – это был бы просто конец всему! Подобные идеи гибельны для любви… И Вера никогда не смогла бы простить Алеше такого эксперимента.
«Нет, что это я? Он не мог… – думала она, глядя в окно электрички. – Он даже мысли такой не допустил бы… Он чистый человек, мой Алешка! И высшая Красота для него не пустое слово. Он с детства влюблен в нее, он ищет ее повсюду… Он верует… И, по-моему, не меньше, чем я, боится за наше счастье…
Но тогда что же это? – продолжала раздумывать Вера под успокаивающий перестук колес. – Предчувствие? Интуиция? Тайный знак? Она близко, эта женщина, она жива, она может возникнуть из небытия… Так? Не знаю. Ничего не знаю! Но чувствую, все это неспроста. Надо быть очень внимательной ко всему. И надо сделать все, чтобы уберечь наше чувство. Может, увезти его куда-нибудь… А куда? На море? Пошлость и гадость! У нас же есть сад – что еще нужно для счастья! Нет, никуда они не поедут. Ей еще по издательствам предстоит помотаться, у него грядет выставка. Три работы его отобрали!» – с гордостью подумала Вера, предвкушая Алешин триумф на одной из престижных осенних выставок в Доме художника на Крымском. Отбор проводили самые известные галеристы, они выбрали лучшие работы лучших московских художников, в том числе и самых маститых… А ведь у Алеши еще не было имени. И они тем не менее предпочли многим маститым его!
«Так, куда же мне? В Хлебный или в мастерскую? Если ошибусь, приеду, а там его нет, значит, все очень плохо… Значит, нарушено тайное хрупкое равновесие времени, отмеренного для счастья. Значит, что-то изменилось в движении времен, которые начнут отторгать их гармонию, противостоять ей и разрушать ее… Вот, идиотка, ты скорее сама накликаешь что-то дурное! – не выдержала Вера этого неясного томления духа, которое вконец извело ее. – Ну, что случилось? Портрет не похож? Так ведь это не фотография! Молочница поинтересовалась, муж ли мне Алеша? Так что из того, просто любопытная женщина… И все-то тебе неспроста, во всем-то ты видишь знаки… Ох, Верка, не впрок тебе быть счастливой! Другие только благодушней и безмятежней от этого делаются, а ты… все думаешь, думаешь, всю себя извела раздумьями этими… Гляди, не ровен час – засохнешь… – улыбнулась она. – Ну и глупая же ты баба! – отчего-то с истинным наслаждением протянула она про себя это простое русское слово: «баба». Ей от него словно теплее стало. Домашнее… – Хотя, – рассмеялась она, – не в свои сани…» Какая уж там «баба», когда, как выяснилось, принадлежала она к старинному дворянскому роду.
Да, порода сказывалась в ее чертах. И в манерах, и в жестах. И в помыслах. Вера изводила себя вечными раздумьями и порою от этого не давала покоя ни себе, ни другим. Она словно бы силилась заглянуть за край невидимого колодца… Посмотреть, что же там, в глубине… Тянулась, тянулась, вставала на цыпочки, но… Увидеть то, к чему ее так тянуло, ей было пока не дано. Несмотря на свою необыкновенно развитую интуицию и богатое воображение, она была человеком вполне земным. Просто она была Женщиной. С большой буквы. Хотя ей иногда казалось, что истинной правды в том, что она такое и какова вообще настоящая женщина, никто не знал… В том числе и она сама!
«Ну, решайся! – приказала себе Вера, глядя, как дернулась и поплыла платформа станции Маленковская – предпоследней остановки перед Москвой. – Нет, вряд ли он сейчас дома. Без меня… Что там делать? У него же работы уйма. Нет, скорее всего, он в мастерской. Туда и поеду. А если его там нет? Значит – ты проиграла. И все твое немыслимое счастье развеется, как туман…»
Вот так и решила и смешалась с пестрой толпой пассажиров, устремившихся к подземелью метро. А внутренний голос корил: «Ну что ты? Как ребенок, честное слово! Разве можно ставить любовь на карту: угадала – не угадала… Там он будет или не там… Как можно шутить такими вещами?..»
«Это не шутки, – отвечал голосу благоразумия другой, весь состоящий из интуитивных догадок и предощущений, – ему Вера особенно доверяла… – это вовсе не детская привычка загадывать, вроде того: сколько раз прокукует кукушка или успею я на этот автобус или нет… Это совсем другое. Невесть откуда посланное знание, что от этой моей поездки в Москву зависит все: быть или не быть мне с Алешкой!»
Да, в этом дождливом дне таилась возможность неожиданных крутых перемен, и Вера всем сердцем чувствовала это. Слишком тревожен был голос ее интуиции, он бил в набат, созывая спящих. А спящей доселе была она, Вера. Она растворилась в собственном счастье и утеряла бдительность: ей казалось, что так будет вечно! Что все ее битвы выиграны и больше не нужно бороться… Но кто мог бы ей объяснить, почему появление простой деревенской тетки с кошелкой Вера восприняла не иначе как явление гонца, несущего тревожную весть… Нет, это было выше ее понимания. И тем не менее это было именно так.
Гонец появился!
С замиранием сердца Вера вставила ключ в замочную скважину двери мастерской. Влетела в кухню, как испуганная птичка. И, сразу ослабев, без сил опустилась на стул. Слава Богу, она не ошиблась. Алеша был тут, в мастерской! Весь перепачканный краской, небритый, заросший… Значит, все хорошо и домыслы мучили ее понапрасну…
Увидев ее, он так просиял, что у Веры тотчас же отлегло от сердца… Его радость была такой открытой, такой непосредственной, он настолько не стыдился проявления своих чувств, что Вера в который раз сама себе позавидовала: каким редким для мужчины даром естественности обладал ее Алексей!
– Верка! Родная моя! Вот радость… Да как же ты? Я ж тебя только на будущей неделе ждал. Ох, хорошо-то как! – кинулся он целоваться, смешно вытягивая губы и растопыривая руки в краске, чтобы не испачкать. Потерся щекой о ее щеку, а потом, охнув, умчался в ванную – отмываться и бриться. Понял, что зарос острой, колючей щетиной.
– Ну вот теперь дай-ка мне обнять тебя наконец! – весело воскликнул Алексей и обнял так, что у нее все косточки хрустнули, но было вовсе не больно – было так здорово! Только в его сильных, с юности натренированных руках (Алеша занимался боксом) она впервые почувствовала, какое счастье быть слабой и не стесняться, а радоваться этой слабости. Потому что ее слабость наделяла его силу чертами бережной чуткости и благородства. Ее хрупкость и беззащитность были тем источником, который неизменно питал его силы, и духовные, и физические… Вера порой удивлялась, как, словно по мановению волшебной палочки, день ото дня прояснялось его лицо, как горели глаза и свет их становился все глубже, все проникновеннее, как после бурных ласк он, полный сил, кидался к мольберту или на кухню – готовить изысканный ужин, вечно придумывал что-нибудь вкусненькое, пока она приходила в себя… Казалось бы, обычно бывает наоборот. Но он, приникая к любимой, как к живительному источнику, превращался в былинного богатыря, припадающего к земле-матушке… И та неизменно одаривала его силушкой богатырской…

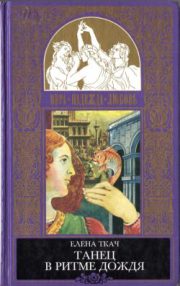
"Танец в ритме дождя" отзывы
Отзывы читателей о книге "Танец в ритме дождя". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Танец в ритме дождя" друзьям в соцсетях.