В это время зазвонил телефон. Закурив очередную сигарету, он снял трубку.
– Лексеич? Привет, старик, как нетленка? Малюешь? Небось, мать твою, в творческом полете?
– А, Кузьма… Легок на помине. С утра о тебе вспоминал. Ну что, есть новости?
Звонил Толя Кузьмин, по прозвищу Кузьма. Бывший актер, он теперь терся в среде политиков и бизнесменов, используя связи тестя – видного дипломата. Тусуясь на вернисажах, банкетах и презентациях, он каким-то особым чутьем находил спонсоров для театральных постановок, выискивал нуворишей, которым для полного счастья не хватало лишь одного: чтобы их имя воссияло в титрах модного фильма, обозначенное священным словом «продюсер»… С подачи Кузьмы запускались фильмы, талантливые художники обретали покупателей и меценатов и как-то жили, театры не прогорали, полностью лишенные госдотаций, – вместо докучливого и въедливого Министерства культуры о них теперь пеклись люди, обладавшие таким же понятием о системе Станиславского, как гиппопотам о хореографии… Зато в кругу себе подобных они могли «заткнуть» кого-нибудь из корешей, хвастающихся покупкой нового участка земли в Испании, коротким сообщением о том, что вчера на банкете в «Метрополе» по случаю премьеры Чехова они пили водку с народным артистом имярек… И это срабатывало…
Без людей, подобных Кузьме, «заглохла б нива жизни» – нива многострадальной отечественной культуры. И он тем гордился. И собирал с этой нивы немалый урожай. Так что никто не оставался внакладе!
Вездесущий Кузьма познакомился с Алексеем буквально пару недель назад, на выставке, посвященной памяти выдающегося отечественного искусствоведа, где собрался цвет московской художественной интеллигенции. На другой же день, побывав у Алеши в мастерской, Кузьма сразу учуял – тут есть чем поживиться, художник-то явно талантлив, да что там – быть может, будущий гений! Чуть-чуть помочь, слегка протолкнуть, там замолвить словечко, тому картину продать – и все! Дело сделано! Вышел человек в люди. Они договорились, что Кузьма сведет Алексея с одним человечком, мечтавшим заказать свой портрет самому «крутому» современному и непременно молодому художнику, – чтобы потом, когда его картинами будут увешаны стены музеев мира, в Третьяковке красовался этот портрет… И Алеша вот уже второй день ждал звонка Кузьмы, готовый начать работу. Аванс, который он должен был получить, помог бы им с Верой как минимум год прожить безбедно…
Конечно, Алексей нервничал – все это было так неожиданно – просто сказочная удача… Но он знал, что мероприятия, задуманные Кузьмой, как правило, не срывались… И все же Вере об этом заказе он пока не говорил. Чтоб не сглазить!
И вот наконец долгожданный звонок.
– Старичок, новости такие: полный облом!
– Поня-а-атно! – протянул Алексей и сжал телефонную трубку так, что она чудом не треснула. – А что случилось?
– А случилось то… Только, Алексей, уговор – никому ни слова. – В голосе Кузьмы зазвенел металл. – Бахнули клиента нашего!
– То есть как… бахнули? – опешив, переспросил Алеша.
– А вот так. Тремя выстрелами в упор. Во дворе собственного дома. Значит, ты от меня о нем ни слова не слышал, я тебе ни о каких его заказах не говорил. Я его не знаю, и ты его не знаешь… Ясно?
– Чего уж яснее… – Сигарета в руке Алексея дернулась, дым метнулся к глазам, наполнив их слезами.
Он чертыхнулся и заморгал, утираясь рукавом.
– Ну ладно, старик! Не кисни. Чуть погодя найдем покудрявее! Ты в Москве?
– Куда я денусь… У меня с работой – завал. Готовлюсь к осенней выставке.
– Ну вот и чудненько. Значит, договорились. Я сам на тебя выйду. Мне пока не звони – я исчез!
В трубке послышались частые гудки. Алексей с минуту постоял, все так же судорожно сжимая ее, а потом медленно положил на рычаг. Он обвел стены мастерской невидящим взглядом, словно ища у них, безмолвных, поддержки, загасил сигарету и, повалившись в кресло, начал с таким остервенением тереть глаза кулаками, словно силился их раздавить.
– Так! Приехали, – сообщил он самому себе вслух. – Дальше некуда!
Встал, прошелся туда-сюда, поддевая ногой тюбики с краской, валявшиеся на полу возле мольберта. Рывком распахнул дверь в ванную, открыл кран и подставил затылок под холодную струю. Подняв голову – по волосам и усам текла вода, – он взглянул на себя в зеркало и рассмеялся. Громко хохотал – во весь голос, мотая головой и разбрызгивая по зеркалу бесцветные капли. А потом со всей силы саданул кулаком по раковине. Раковина была старая. От удара она треснула пополам.
Не обращая внимания на учиненный погром, Алексей вернулся в комнату. Стоя перед только что законченным портретом Веры, он задумчиво и медленно произнес:
– Ну и ну… Долга – три тысячи. Денег нет и не будет до осени. Если только и осенью что-нибудь не обломится… Так что же мне делать теперь, любовь моя?! Милая, что мне делать! Я не могу…
В прихожей хлопнула дверь, и на пороге мастерской показалась Вера. В руках у нее были две полные сумки, верхняя пуговка на блузке была расстегнута, открывая нательный крестик, который никому, кроме Алеши, видеть не дозволялось. Но она этого не замечала. Она улыбалась. А в огромных ее глазах, распахнутых, как от испуга, застыло какое-то детски-беззащитное недоумение. Казалось, взгляд ее говорил: что ты собираешься сделать с нами, жизнь? Зачем же ты с нами так? Я так на тебя надеялась!
Вера увидела выражение глаз Алексея. Она поняла: ее смутные и самые худшие опасения оправдались. За то время, пока она бегала по магазинам, здесь что-то произошло. Причем это «что-то» было для Алеши настолько важным и настолько страшным, что он, стараясь защититься от этого, полностью отгородился от мира. Если бы только от мира – он отгородился и от нее! Алексей сел в невидимый поезд. Он умчался далеко-далеко… И на этот поезд она опоздала! Теперь они будут во всем не совпадать друг с другом: их настроения, желания, ритмы, вибрации отъединены, разбиты, разорваны. Их сердца больше не бьются в такт!
Все это промелькнуло в голове в считанные секунды, стоило ей только войти в комнату. Ведь Алешино состояние передавалось ей моментально, она чувствовала его кожей, порами, нервами, всем своим душевным аппаратом, настроенным на его волну…
– Алешенька, – все так же растерянно улыбаясь, сказала она, роняя сумки на пол, – я поесть принесла. Кушать будешь?
Он с минуту молча глядел на нее, и во взгляде этом была теперь только боль. Такая боль, что Вера отшатнулась, как от удара, и прислонилась к стене. Она попросту не могла этого вынести. Потому что понимала, что помочь ему ни в чем нельзя. Более того, сейчас он и не примет помощи…
– Ты… – неуверенно, словно на ощупь, спросила она, – ты, может быть… – Она пыталась найти то единственно нужное, что было бы спасительно для него, пробуя слова, как шаткие мостки над стремниной. – Может, на воздух? Давай на дачу поедем? А? Там бумага для акварели и краски, все есть. А я… Вот гляди. Я рассаду купила! – И Вера торопливо, как мать, которая хочет поскорей порадовать больного сынишку, достала из сумки кулек с нежной помидорной рассадой.
Она протянула к нему руки с этим кульком. Она сделала шаг навстречу. Тонкие стебельки с сочными хрупкими листьями колыхались в ее руках.
– К черту твою рассаду! К черту все! К черту! – крикнул он так, что тонкие стены вздрогнули и картины качнулись.
А Вера продолжала стоять как каменная, все так же доверчиво протягивая ему свою сбывшуюся мечту – первую в жизни рассаду.
Алексей одним прыжком подскочил к ней, вырвал кулечек из рук, кинул на пол и стал топтать, стараясь, чтобы легкий хруст, с которым лопались стебли, был крепче, смачней, слышней…
Довершив свое дело, он ветром мелькнул мимо нее и хлопнул дверью ванной. В полнейшей тишине мастерской послышалось, как из душа с грохотом полилась вода. А над молчащим городом раздался новый удар грома.
Вера как стояла, так и села на пол. Она сидела недвижно и неслышно – как изваяние. Как смятый цветок, прибитый к земле шквальным дождем. Возле ног ее валялась растерзанная рассада.
Минут через десять – впрочем, Вера забыла о времени – из ванной появился Алексей. Собранный, причесанный, застегнутый на все пуговицы. Двигался он быстро и четко, как бы механически. Как неживой…
Он аккуратно и деловито снял со стен мастерской все портреты своей бывшей жены и составил их в угол – лицом к стене. Верин портрет он обернул куском материи и тоже прислонил к стене, только очень бережно. Потом подошел к замеревшей на полу Вере, подхватил сумки, взяв их в левую руку, а правой потянул ее за руку, поднимая с пола. И, подняв, не глядя в глаза, произнес:
– Ты готова? Мы уходим. – Произнес очень твердо и нарочито спокойно.
Резким движением развернув его к себе, схватив за плечи, она крикнула, зарыдав наконец:
– Что с тобой? Алешенька, что? Почему ты молчишь? Что ты наделал? За что?
– Это потом. Все потом. Пойми… Нам надо идти, – выделив голосом слово «надо», проронил он, отводя взгляд.
Это его надо, видимо, подействовало на нее. Вначале промелькнуло: «Уйти? Домой, в Трехпрудный… У меня же свой дом… Или здесь… Не могу так. Не хочу, чтобы так со мной обращались… Но тот его взгляд, исполненный боли, так испугал ее, что она собрала всю волю, все силы, чтобы сказать себе: нельзя теперь бросать его одного. Он прав: все разговоры – потом. У него что-то стряслось. Мне нельзя сейчас обижаться. И в конце концов, я обижусь потом!»
Это ее «обижусь потом» было шедшим из самых глубин женского естества, борющегося за жизнь по принципам мира, а не войны: уберечь, склеить разбитое, соединить, примирить, понять… Сохранить, сберечь, защитить. Не дать жизни перебороть самое себя… Защитить ее от себя же самой… Превозмочь раздор, а потом уж… Вот потом, когда все уляжется, можно и поговорить…
Ах, эта слабая женская сила! Только ею все и держится!
Они побрели сквозь нарастающий, набирающий силу дождь. Без плащей. Без зонта. Без радости.

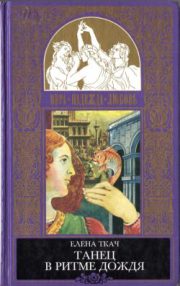
"Танец в ритме дождя" отзывы
Отзывы читателей о книге "Танец в ритме дождя". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Танец в ритме дождя" друзьям в соцсетях.