— Да? Я редко смотрю телевизор, мне трудно судить. Мне это кажется довольно грубым и вульгарным. Но ведь я в Австралии, верно? Это так здесь, у нас. Тебе нравится твоя работа?
— Да.
— Это главное. Хомер не возражает?
— Нет. С чего бы?
— Ты же знаешь мужчин. Что годится тебе, никогда не годится им. Послушай, цыпленочек, я не хочу тебя обижать, но через дырку в сетке залетел проклятый шершень. Весь дом проела ржавчина, скоро развалится. Мне надо идти.
— Конечно, мама. Большой шершень?
— Очень.
— У Джейсона сегодня день рождения.
— Джейсона? А, у малыша. Сколько ему — должно быть, четыре, пять? Передай ему привет. Я плохая бабушка, но, во всяком случае, я существую.
— Во всяком случае, ты существуешь. Пока, мама.
— Почему ты не зовешь меня Хэриет? Пока, милая.
Изабел забралась обратно в постель; рот пересох, на языке вкус песка и пыли. Все тлен и суета. Нет ничего невозможного, но что возможно? Пусть она вырвет у жизни все, что захочет, — успех, и богатство, и личное счастье — это ничего ей не даст. Мать всегда будет далека от нее, но «с глаз долой» не обязательно «из сердца вон»; мать будет с улыбкой глядеть на ее попытки добиться победы и доказывать, что старикам лучше жить самим по себе, что в конечном итоге все достижения бессмысленны, все услады — безвкусны. Лучше умереть, быть хромым и слепым, чем узнать все это в ранней юности, как пришлось ей, Изабел.
Хомер повернулся на кровати лицом к ней.
— В чем дело?
— Не знаю.
— Который час?
— Рано.
— Где ты была?
— Звонила матери.
— О, Боже! Зачем?
— Сегодня у Джейсона день рождения.
— Что она сказала?
— Не то, что я хотела бы от нее услышать.
— А что бы ты хотела?
— «Молодец. Поздравляю. Скучаю. Почему бы тебе не прилететь повидаться со мной?» То, что говорит тебе твоя мать.
Хомер обнял ее, чтобы поскорей изгнать страхи из ее сердца. Крепко стиснул в худощавых мускулистых руках. Он весил из года в год ровно столько, сколько ему было положено весить согласно таблице, висевшей в приемной врача, по мере надобности увеличивая или уменьшая потребление калорий. В будние дни он каждое утро ехал в контору на велосипеде, каждый вечер на велосипеде же возвращался домой. Дважды в неделю он вставал раньше обычного и обегал чуть не весь Риджент-парк.
«Я бы жил вечно, если бы мог, — частенько говорил он, — но так как это невозможно, я буду жить столько, сколько смогу».
Хомер — счастливый человек, думала Изабел. — Иначе и быть не может. И спрашивала себя, каково это — иметь такую жажду жизни. Когда они занимались любовью, она пыталась перенять у него это свойство, но при ровном темпераменте Хомера то, что он имел, он держал при себе, излишков у него не было. Он соприкасался с ней только физически, предоставляя Изабел самой создавать в душе те высоты и глубины, которые казались ей тут уместными, что она и делала, и не чувствовала себя разочарованной в нем. Если кто-нибудь набрался бы смелости поинтересоваться подробностями ее интимной жизни, она бы ответила: «О, у нас полный порядок. Во всяком случае, никто из нас не ищет партнера на стороне».
Тело Хомера было таким же аккуратным и организованным, как и его ум. От него пахло свежестью. Оно вызывало в Изабел естественную и незамедлительную реакцию. Хомер не делал нескольких вещей одновременно. Изабел это нравилось. Когда Хомер занимался любовью, он сосредоточивал на этом всю энергию, уделял все внимание воздействию своего тела на тело партнерши, словно меньшее, чем он мог ей угодить, это не обрушивать на нее беспорядочных чувств, отдать ей всего себя целиком, чистым, бодрым и собранным. Чувства, нежность он выказывал до и после. А в натуре Изабел было все делать сразу: держать в себе все переживания дня, самые тревожные и бурные, даже если она сама в них еще не разобралась, и отдавать себя ночью всю целиком, и тело, и душу. И, поскольку она отдавала и то, и другое вместе, Хомер брал их вместе — и то, и другое: тело и душу, но сам он отдавал их порознь. Сперва тело — крепкое и решительное, затем душу — глазурь на торте, наложенная тонким слоем, скользкая, непрочная и ненадежная оболочка. «Тебе было хорошо, Изабел?» И она отвечала: «Да, да, конечно», всякий раз, из ночи в ночь, удивляясь тому, что он считает нужным задавать ей этот вопрос. Как было, так было.
Он никогда не вскрикивал громко, дойдя до оргазма; шум приглушался, словно рядом всегда кто-то слушал, смотрел. «Ш-ш, ш-ш», — говорил он, если они были в чужом месте и кровать скрипела, и даже дома, когда она забывалась, когда что-то — возможно, всего лишь эмоции, накопившиеся за день — требовало более бурного выхода, более шумной реакции. Но, поскольку эмоции эти не были вызваны Хомером, она не имела на них права и поэтому быстро утихала.
Иногда она плакала после, сама не зная почему.
— Что с тобой? — спрашивал Хомер.
— Не знаю.
— Я сделал что-нибудь не так? — настаивал он, соскальзывая на зыбкую почву, и она не могла не рассмеяться, потому что он все делал даже более, чем «так», и доставлял ей такое наслаждение.
— Конечно же, ты делаешь все так, как надо, — говорила она.
— Тогда что с тобой?
Этого она сказать не могла. Возможно, она оплакивала все горести мира или то, что всему есть смертный предел, или то, что, испытывая удовольствие, в то же время она страдала при мысли, что ему придет конец, а возможно, она плакала потому, что Хомер никогда не плакал.
Однако сегодня ответить было легко.
— Я плачу, потому что меня расстроила мать, — сказала Изабел. — Я хотела бы, чтобы она чуть больше меня любила.
— А я бы хотел, чтобы моя мать любила меня чуть меньше, — сказал Хомер. — Тогда я не чувствовал бы такой ответственности за нее.
— Мы оба изменили им.
— Изменили? — удивленно сказал Хомер. — Для меня главное — знать, что я не изменил себе.
Иногда, желая его уколоть, люди намекали Хомеру, что он изменил своей стране, что, раз он против войны с Вьетнамом, он тем самым против Америки и его переезд в Европу — предательство по отношению к стране, которая вскормила его.
«Что ж, если вы так на это смотрите, — охотно соглашался Хомер, — вы, наверное, правы. Но я предпочитаю быть гражданином мира, чем подданным Америки при ее теперешнем настрое. Я не делаю ничего противозаконного. Я плачу налоги. Просто мне здесь больше нравится».
Но теперь, когда неуверенность в себе и чувство национальной вины охватили душу американца, как раньше — душу европейца, Хомеру легче было пересечь Атлантику. Он плавал туда три-четыре раза в год по делам фирмы, где он служил, или чтобы побывать с Джейсоном у родителей.
«Я знаю, они поддерживают военные программы, — говорил он, — и так далее, и тому подобное. Но глоток кондиционированного воздуха и всеобщая предприимчивость действуют весьма стимулирующе».
Изабел, сомневаясь в радушном приеме, никогда не ездила в Австралию. Иногда она спрашивала себя: будь у нее вместо сына дочь, не проявляла бы Хэриет к внучке больше интереса.
«Не волнуйся, — говорил ей Хомер, — наш дом — Лондон, пусть все будет как есть. Мы станем родоначальниками нашей династии, мы позабудем все, что было раньше. Наше прошлое — в наших генах, этого более, чем достаточно».
Джейсон, дитя двух континентов, радостно играл на Уинкастер-роу и не желал другой жизни.
День рождения сына! Наверху Джейсон пробудился ото сна и приветствовал окружающий мир оглушительным воплем. Не в его привычках было встречать утро тихим бормотанием или еле слышным поскуливанием, подобно детям их друзей, судя по словам родителей; он предпочитал здороваться с наступающим днем громким криком, где бурный восторг сочетался с укором. Выпустив, так сказать, на волю заглушенный сном пыл, накопившийся за ночь, Джейсон снова засыпал минут на пять прежде чем вторично, теперь уже окончательно, проснуться. На этот раз его вопли взывали о внимании: они тянулись до тех пор, пока кто-нибудь из родителей не появлялся наверху.
«Думаю, он утихомирится, когда достигнет половой зрелости, — не раз говорил Хомер, — и не узнает, на что нужна ночь и куда девать энергию».
— Отсрочка на пять минут, — сказал он в это утро, вытирая слезы Изабел.
Сегодня была очередь Хомера поднимать сына, но в честь его дня рождения родители оба отправились к нему в спальню. Изабел спустила ноги со своей стороны кровати, Хомер — со своей. Оба натянули джинсы, тенниски и туфли на резиновой подошве. Зазвонил телефон. Это была одна из ассистенток Изабел. Извинившись за ранний звонок, она попросила разрешения связаться с норвежским архитектором, который остановился на день в Лондоне, прервав свое кругосветное путешествие. Тревога Изабел улетучилась. Мир вернулся к нормальному состоянию. Надо было принимать решения, зарабатывать деньги, справляться с жизнью.
Хомер открыл дверь в спальню Джейсона. «Тра-та-та-та-та», — тарахтел Джейсон, направляя на родителей новый нарядный пистолет так, словно держал в руках автомат.
— Мне шесть, скоро будет семь, мне не надо сегодня идти в школу.
— Надо, надо, — сказали они. Джейсон вопил, орал и топал ногами. Родители урезонивали его, взывали к его рассудку, улещивали.
Хомер отводил Джейсона в школу по понедельникам и средам и забирал по вторникам и четвергам. Изабел отводила его по Вторникам и четвергам и забирала по понедельникам и средам. По пятницам родители вместе отводили его и вместе забирали. Такой распорядок вполне их устраивал.
В хорошую погоду Джейсон сидел за спиной Хомера на велосипеде. Сегодня был ясный день. Джейсон, все еще с пятнами от слез на щеках, обернулся, когда они отъезжали, и улыбнулся матери. Это была улыбка принца своему приближенному, бесконечно добрая, бесконечно снисходительная. Всепрощающая. Изабел стало ясно, что он с самого начала не собирался пропускать уроки.

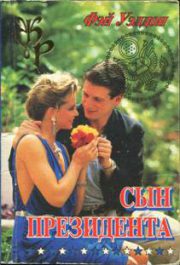
"Сын президента" отзывы
Отзывы читателей о книге "Сын президента". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сын президента" друзьям в соцсетях.