Из придорожной канавы вышла женщина. Она прижала руку сначала к груди, потом поднесла ее ко лбу и наконец протянула ее за подаянием.
– Это ты, Миррина?.. Я пела, чтобы развеселить его. Он голоден. Кроме того, язвы причиняют ему страдания, и он не может уснуть…
– Кто? Ретик? Все еще он?
Женщина казалась гораздо старше своих лет. Ее дряблое тело едва было прикрыто лохмотьями из синего холста. Молодость сохранилась только в голосе, необыкновенно гибком и теплом, который от самых чистых звуков флейты доходил до воплей, похожих на завывания ветра в дремучем лесу.
Говорили, что она родилась в стране еще дальше родины савроматов, на плоской и пустынной равнине, где кони скифов зимой разрывают копытами снег в поисках травы. Скитаясь за чертой города, она предлагала себя рабам и преступникам, осужденным властями на ассенизационные работы, и они платили ей медными грошами.
Кроме того, она занималась колдовством, продавая разные приворотные зелья. Клиентура ее состояла из богатых коринфских дам, главным образом из куртизанок, которые считали ее более сведущей в колдовстве, чем фессалийки. Ничего не тратя на себя, Ордула кормила одного варвара, бывшего раба, хромого и отвратительного нищего Ретика, которого скупой Поссидий имел жестокость прогнать от себя.
– Ты знаешь, у нас предстоят гонения на христиан?
Миррина чувствовала гордость, что в свою очередь может сообщить такую важную новость.
– На христиан? Плевать мне на них! Они уверяют, будто мертвые никогда не выходят из своих могил, в которых их стережет Христос или Люцифер. И люди идут к христианам, потому что боятся мертвых. А я так люблю мертвых и их тени! Я их нисколько не боюсь. Я слушаю, что они говорят мне, и живу этим. И на твоих богов я тоже плюю! Для меня существуют одни только мертвые… И еще страдания живых. Ах, Миррина, если бы ты только знала, как сладко утешать страждущих! Жалость рождает чувство еще сильнее любви, оно поддерживает и воскрешает…
– Ты говоришь о Ретике?
– Да. Есть ли кто-нибудь несчастнее его? Взгляни!
В это время из канавы почти ползком вышел нищий. Он приседал на обе ноги, точно верблюд, который становится на колени. Один глаз у него был закрыт темным бельмом… Миррина отвернулась. Уродство и болезни возбуждали в ней отвращение.
– Дай мне руку, – сказала Ордула, – я погадаю тебе о твоей судьбе.
– Нет, сегодня поздно. Зайди как-нибудь ко мне; ты знаешь, где я живу… Только без него, – прибавила она с содроганием.
– Я его не беру с собой. Он просит милостыню на рынке, пока я хожу по городу… Подай ему что-нибудь!
Фульвия, дочь Мария Фульвия Перегринуса, патриция и правителя Коринфа, была замужем за романизированным греком Агабусом. Это был человек знающий и опытный. Он занимал пост прокуратора в Фессалониках, в области, принадлежавшей божественному августу – императору Диоклетиану. Этот пост сулил ему блестящую будущность. Через восемнадцать месяцев после замужества Фульвия подарила ему сына, или, как говорили римляне, верные старому способу выражаться: «Агабус приумножился сыном», что означало прочность и долговечность рода.
Фульвия уехала из Фессалоник к своей матери Гортензии, чтобы у нее разрешиться от бремени. По этому случаю дворец правителя был разукрашен гирляндами, и все знатные дамы Коринфа спешили туда поздравить роженицу.
Шесть месяцев тому назад Феоктин обещал Миррине расстаться со своей бывшей любовницей. Ничего не могло быть проще этого: ему пришлось только порвать скрываемую от всех связь с Евтропией, женой Веллеия Виктора, важного чиновника, секретаря Перегринуса. Это тоже был римлянин по происхождению, очень старинного рода, хотя и не патриций.
Разрыв прошел для Феоктина совершенно безболезненно: Евтропия, кичащаяся своим происхождением, женщина не первой молодости, тешила только его самолюбие. Она со своей стороны простила бы ему этот разрыв, если бы он покинул ее для другой женщины, а не для какой-то рабыни Афродиты, и притом самого низкого происхождения, которую ему даже пришлось выкупить у главной жрицы.
Из боязни, чтобы Евтропия не велела своим рабам высечь Миррину розгами или утопить, как это часто проделывалось в те времена из мести, Феоктин отдал приказание каппадокийцам зорко охранять дом, который он подарил своей возлюбленной.
Евтропия, вследствие положения, занимаемого мужем, первая явилась навестить Фульвию. Гортензия, бабушка новорожденного, принимала поздравления в гинекее. Она показывала гостям стянутого свивальниками младенца и затем передавала его на руки кормилице-фрикийке, если только он не спал в своей колыбельке-ладье из лимонного дерева с инкрустациями из слоновой кости и перламутра.
У двери в комнату роженицы, согласно старинному обычаю, которого здесь строго придерживались, стояло трое мужчин: один с секирой, другой с копьем, а третий подметал метлой порог. В их обязанности входило устрашать и гнать злого духа, который прячется под постелью молодых матерей до того момента, пока они не встанут на ноги.
После того, как гостьи поцеловали мать и поздравили ее, разговор принял общее направление. Весть об обнародовании эдикта против христиан уже разнеслась по городу. Некоторые из посетительниц в глубине души разделяли мнение своих мужей или любовников, которые полагали, что в Коринфе эдикт будет иметь чисто формальное значение, как это было в царствование Валериана и Аврелиана. Однако они хранили молчание, выжидая, что скажет Гортензия, жена правителя: Гортензия, без сомнения, знала намерения мужа и, по слухам, имела на него большое влияние.
Эта почтенная матрона была необыкновенно строгих нравов. В то время, как Евтропия, наряженная в одежду из лилового шелка, затканного золотыми цветами и листьями, украшала свое лицо черными мушками, вырезанными в виде полумесяца, Гортензия носила столу древних римлянок – единственную одежду, запрещенную куртизанкам. Стола была из белоснежной шерстяной ткани, без украшений, совершенно прямая и такая длинная, что из-под нее едва виднелись кончики сандалий из белой кожи с ремешками, украшенными серебром.
От нее сильно пахло пряными духами, которыми она старалась заглушить запах бараньего сала – она смазывала им себе лицо на ночь для сохранения кожи.
Каждый раз, когда она поворачивала свою белокурую голову, раздавался легкий стук серег-подвесок, каждая из трех жемчужин в форме слезы, с крупными бриллиантами. Серьги были такие тяжелые, что оттягивали мочки ушей.
Гортензия претендовала на авторитетность и отличалась осторожностью, которая проявилась и в настоящий момент.
– Раз божественный император выразил пожелание, то долг правителя – исполнить его, – такова была ее точка зрения.
И больше ее не смели расспрашивать. Гонения на христиан должны были рассматриваться, как мероприятие, которого следует всегда ожидать и к которому на всякий случай следовало приготовиться. Но Коринф до сих пор жил такой мирной жизнью и так чуждался всего того, что не было увеселением и торговлей, что никто из присутствующих не мог даже себе представить, в какой форме выльются предполагаемые гонения.
Хотелось расспросить обо всем этом Гортензию. В течение двух веков с тех пор, как азиатские нравы стали проникать в империю, у многих женщин появился интерес к политическим событиям, и очень часто божественные августы принимали свои решения не без участия в них гинекея.
Но больше всего интереса к вопросу о гонениях на христиан проявляли не коринфянки, эллинского или латинского происхождения, явившиеся к Фульвии за новостями под предлогом навестить роженицу, а одна молодая девушка, которая до сих пор хранила упорное молчание, сидя у постели молодой матери. До замужества и до своего переезда в Фессалоники Фульвия питала к ней самую горячую дружбу. По приезде своем в Коринф она снова сошлась с ней.
Евтихия, дочь богатых родителей, одевалась чрезвычайно просто – в белую тунику, без единого украшения, кроме золотого обруча, поддерживающего волосы. Она не любила принимать участие в общих разговорах. Разговоры эти, казалось, нисколько не интересовали ее.
Окружающие не могли понять, почему дочь правителя так привязалась к ней.
Но в этот день, оставив свою обычную сдержанность, Евтихия проявила необыкновенный интерес и с живостью задавала вопросы.
– Право, не знаю, чем все это может кончиться, равнодушно отвечала Гортензия. – Вероятно, будет то же самое, что во времена моей молодости при императоре Валериане: власти, как тогда, проявят большую снисходительность. Закроют только места сборищ христиан и подвергнут секвестру книги и предметы, служащие им при исполнении их таинств. И после посвящения местным богам и изображению императора предметов продовольствия от христиан потребуют, чтобы они сожгли на алтаре несколько зерен курений. Вот и все! От них даже не будут требовать, чтобы они отказались от исполнения своих таинств, кстати сказать, отвратительных, если только они согласятся воздать соответствующие почести богам империи. Все эти меры – чрезвычайно мягкие.
– Прекрасно! – заметила Евтропия. – Но что если они откажутся принести эту жертву? Если они унесут из своих, как они их называют, церквей книги и предметы богослужения? Если они не согласятся на конфискацию?
– При Валериане пришлось прибегнуть к нескольким казням для устрашения и для примера. Но их было немного, и лучшим доказательством этому служит увеличение числа последователей и адептов за последние тридцать лет. Но как бы то ни было, законам божественного императора должны беспрекословно подчиниться все!
Евтропия, при одном упоминании о божественной особе императора, согласно этикету того времени простерла руки в знак приветствия. В это время в уме ее зародилась одна мысль. Не могли ли надвигающиеся события послужить орудием мести, которую ей до сих пор так и не удавалось осуществить?
Почтительно склонившись перед Гортензией, поцеловав на прощание Фульвию и пожелав счастья новорожденному, у которого на пеленках красовался золотой шарик – эмблема юных патрициев, она через некоторое время раздвинула занавески своих носилок и спросила одного из рабов:

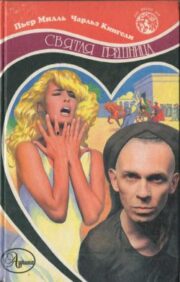
"Святая грешница" отзывы
Отзывы читателей о книге "Святая грешница". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Святая грешница" друзьям в соцсетях.