Хозяин таверны и продавец вина встречается с разными людьми, узнает много разных новостей. У этого Агапия останавливались, прежде чем войти в коринф, странствующие апостолы – «пророки», как их называли тогда на Востоке. Они приходили из отдаленных стран, из Рима, из Азии и направлялись в Галлию, в Батавию, даже на остов Бретань.
Мистическая уверенность в том, что Христос возвратится на землю во всей своей славе только в тот день, когда все люди на земле познакомятся с его учением, разжигала в них страстную жажду пропаганды. И с этого момента церковь называла себя вселенской, стремясь распространить свое господство на весь мир.
Феоктин и Миррина застали в таверне двух уличных женщин. Одна из них была сирийского происхождения, другая – крупная и дебелая – была рождена фрасландкой и продана в Грецию одним из капитанов-купцов, которые доходили до островов германского моря, скупая амбру и кость морских животных, а иногда и пленников, если им представлялся случай. Они сидели за столом в обществе машиниста и главного надсмотрщика с соседней оливковой давильни и пили крепкое родосское вино, выплевывая косточки оливок.
Им прислуживала жена Агапия, христианка, как и ее муж. Она с чисто профессиональным равнодушием относилась к циничным выходкам и бесстыдным замечаниям гостей.
Феоктин распорядился, чтобы приготовили рыбу и подали лучшего вина. Каппадокийцы, усевшись под деревянным навесом, увитым виноградом, ели и пили. Когда ужин уже подходил к концу, Феоктин не без некоторого удивления увидел, что в таверну вошел Елисафат, известный под греческим именем Аристодема, один из самых выдающихся членов еврейской общины Коринфа.
Дело в том, что евреи в эту эпоху жили в особом квартале города. О них даже говорили: «еврейская нация» Коринфа. У евреев были свои собственные судьи, евреи пользовались особыми привилегиями и держались совершенно обособленно от других граждан. Не принадлежа ни к одной стране, не имея своего собственного отечества со времени падения Иерусалима, они соглашались повиноваться только особе цезаря или его чиновникам, принимая в уплату за свою службу и преданность богатые милости, привилегии и награды.
Аристодем тоже был неприятно поражен, увидя в таверне посетителей, которые знали его. Но он сейчас же примирился с безвыходностью своего положения и спокойно подошел к Феоктину и Миррине, приветствуя их, и даже посидел с ними до окончания ужина. Впрочем, он наотрез отказался принять в нем участие: его закон не позволял ему пить вино язычников или есть их пищу, приготовленную в нечистой посуде. Дверь таверны была отворена. Каппадокийцы весело разговаривали и перекидывались шутками. Ночной воздух был необычайно мягок и тепл, без обычной свежести. Вдруг позади таверны раздался стук затворяемой двери, и двое мужчин в сопровождении Агапия вышли на дорогу через сад. Четверо каппадокийцев поспешно встали и подбежали к одному из них, сделав движение как бы для того, чтобы поцеловать край его одежды. Но Агапий остановил их, указав на таверну, в которой сидели посетители.
Однако Аристодем уже успел узнать их:
– Это Синезий, епископ фессалоникский, – сказал он.
Потом он замолчал, углубившись в свои мысли. Не зная еще, с какой целью Агапий тайно позвал его к себе, он теперь спрашивал, не имел ли приход этих людей какого-либо отношения к их делу. И он пытался разгадать, что бы это могло значить.
Не успели эти двое удалиться, как Агапий сделал ему знак рукой. Аристодем вышел к нему на дорогу, и разговор их продолжался довольно долго.
Тем временем Миррина и Феоктин сели в носилки. Приятное тепло после выпитого вина разливалось у них по жилам. Они спешили обратно в Коринф, в свою комнату… Миррина бросит в светильник несколько зерен ароматного курения, прежде чем лечь рядом с возлюбленным…
К ним подошел Аристодем:
– Вы, наверное, еще не знаете последней новости? – сказал он, как-то сразу оживившись. – В Коринфе будет на днях опубликован императорский эдикт о гонениях на христиан. Для этого сюда и приходил Синезий. Он опередил гонца августа. Теперь он бежал… Руководителям христиан следует избегать столкновений и конфликтов с магистратом. Это – главное! Они должны остаться на свободе, чтобы руководить паствой и поддерживать ее. В Фессалониках на костре сожжено несколько христиан, и среди них три молодые девушки. И все из-за книг, которые у них были найдены! Остальные христиане – а их, по-видимому, много – заточены в тюрьму. В том числе Агафон Порфиридийский. Кажется, вы его знаете? Он – сын старинного друга вашего отца. Я назвал только несколько человек из высшего общества. Простых смертных попросту казнили. Во Фригии дела обстоят еще хуже: Галерий – сторонник более решительных мер. Он – солдат. Рассказывают, что в каком-то городе христиан заперли в базилике и сожгли. Они сгорели живьем, все до единого!
Он сообщал эти новости с гордостью человека, первым узнавшего их, и не без некоторой радости. Некогда, во времена Епафания, истребляли евреев, рубили им головы и сжигали живьем. Теперь евреи жили в мире с империей. Даже больше: они поддерживали империю! Настала очередь христиан, которые до известной степени являлись дезертирами своей веры.
– В Коринфе ни один человек не будет сожжен! – уверенно сказал Феоктин.
Он не мог себе представить, чтобы в этом городе, полном беззаботного веселья, кому-нибудь пришла в голову мысль воскресить пытки и костры. А что касается того, чтобы отдавать христиан диким зверям, то об этом не могло быть и речи: в благодушной и миролюбивой Элладе Риму стоило больших трудов ввести даже борьбу гладиаторов.
– Посмотрим! – произнес Аристодем.
Он не рассказал им, что только что обделал с Агапием одно дельце, для удачного исхода которого гонения на христиан были необходимы. В те времена у властей существовал обычай: когда они запрещали исполнение обрядов какого-нибудь объявленного ими незаконным культа, то, прежде чем выставить на продажу съестные припасы первой необходимости, они посвящали их богам. Тогда христианам приходилось или терпеть голод, или употреблять в пищу оскверненные припасы, внушающие им отвращение.
Агапий только что заключил договор на покупку большого количества муки и вина: освобожденные от посвящения богам, эти припасы некоторое время могли поддержать его собратьев.
Это дело было одинаково выгодно для обеих сторон и сулило им большие доходы. Таким образом политические события и народные волнения могут иногда повлечь за собой большие выгоды для тех, кто их заранее умеет предвидеть.
– Знаешь, Феоктин? – сказала Миррина вскоре после того, как еврей покинул их. – Четверо из твоих рабов наверняка христиане! Ты видел, как они подошли к тому человеку, которого Аристодем назвал Синезием?
– Клянусь Геркулесом, ты права! Ты знала это, Миррина?
– Нет. Откуда же я могла знать?
– Я тоже не подозревал.
Треть населения Коринфа примыкала к христианству.
Если Феоктин и не подозревал, что среди рабов у него есть христиане, то в суде, не агоре,[2] на беседах софистов он постоянно встречался с людьми, о которых ходили слухи, будто они посещают собрания христиан. И тем не менее он имел весьма смутное представление о том, к чему стремились христиане и чем они вообще занимались. Но он должен был согласиться, что они совершили чудо, завербовав себе учеников и последователей по всей империи.
Почти вся Азия приняла их учение. Они покорили себе половину Эллады, этой обители богов, родоначальников цивилизации, которой он восхищался и гордился теперь более чем когда-либо, потому что ей угрожала опасность. И они совершили это чудо, действуя втайне, оставаясь тайным обществом, обряды, цели и действия которого никому не были известны.
Быть может, это происходило вследствие того, что они находились слишком близко он него? Невольно создается привычка к тому, что постоянно видишь перед собой; в конце концов перестаешь обращать на это внимание. У Феоктина иногда являлось желание узнать, что за люди – герулы, вандалы и другие варвары, о которых так много говорили и которых он никогда не видел. Что за люди христиане, он тоже не знал, но не стремился узнать. Эта мысль теперь приводила его в ужас.
Единственное представление, которое он имел о христианских обществах, было представление о них, как о секте, неизвестно почему не желавшей жить так, как люди издавна жили. Они не желали жить в империи, возглавляемой греками и правительством, покровительствовавшим его классу. Одним словом, Феоктин привык думать о христианах как о секте дурного тона и антисоциальной.
На некоторых лиц из числа его знакомых указывали как не имеющих отношения к этой секте. Феоктин имел возможность расспросить их, но он воздерживался от этого. Грек не считал удобным говорить с людьми об их слабостях, в особенности о таких, которые принято считать не совсем приличными.
Когда они приблизились к Кенхрейским воротам, в темноте раздались звуки женского голоса. Полилась странная песнь – печальная, хватающая за душу. Казалось, она олицетворяла собой нежную и трепетную душу ночи.
– Это ты, Одрула? – спросила Миррина.
Она не любила ничего печального и задала этот вопрос исключительно для того, чтобы прервать пение. Она любила музыку радостную, призывающую к пляскам и веселью, песни моряков Средиземного моря, непристойные и задорные, эллинские и латинские гимны, похожие на торжественную речь оратора. А эти причудливые модуляции производили на нее впечатление чего-то противоестественного и неприятного. Не понимая их, она вдруг почувствовала в сердце своем обиду.
– Почему ты помешала ей петь? – спросил Феоктин.
Натура у него была не так примитивна, как у его маленькой возлюбленной, и это странное пение произвело на него иное впечатление. Его утонченный ум быстро утомлялся всем, что было знакомо и изведано. Для того, чтобы дойти до его сердце, ощущения и переживания должны были каждый день избирать все новые и новые пути.

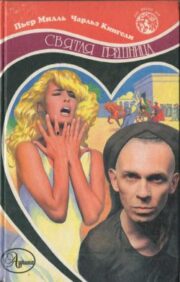
"Святая грешница" отзывы
Отзывы читателей о книге "Святая грешница". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Святая грешница" друзьям в соцсетях.