Пьер Милль
Святая грешница
От автора
Чувство элементарной порядочности заставляет меня раскрыть перед читателем ту небольшую долю вымысла, которую я допустил в этом романе. История Миррины, маленькой куртизанки Коринфа, которая, не будучи христианкой, была приговорена к смерти за принадлежность к христианской секте, рассказана мне в Риме одним ученым агиографом. Эта история произвела на меня печальное и трогательное впечатление, и мне хотелось бы, чтобы это впечатление сохранилось и в передаче ее читателям.
Из трудов болландистов – Дидима и Феодора – я почерпнул эпизод с Евтихией и Клеофоном, и, несмотря на авторитетность «Acta Martyrum», из которых болландисты взяли его, этот эпизод сам по себе в оригинале напоминает прелестный роман. Я очень боюсь, не исказил ли я его! Остальное мое повествование, до последней строчки, навеяно сказаниями о мученической кончине святых Евтропии и Эстеллы, а также святой Ираны, мощи которой находятся в Труа. Наконец, первую встречу Миррины с Феоктином на улицах Коринфа я почерпнул из «Из избранных цветов греческой антологии» Габриэля Сулажа.
Что касается элемента, внесенного лично мною, то я стремился главным образом выдвинуть причины чисто человеческого свойства (остальные находятся вне моей компетенции), вследствие которых христианство одержало верх над остальными культами, ведущими свое начало, подобно ему, из Азии; культами, стремящимися занять место древнего эллино-римского политеизма. Труд Кюмона дал мне в этом отношении богатый материал. Кроме того, я старался изобразить язычников и христиан прежде всего людьми, как это, вероятно, и было в действительности, а не героями – с одной стороны и кровожадными тиграми – с другой.
Я полюбил, говорю это откровенно, без ложной скромности автора, бедную маленькую Миррину. Ее жизнь, достойная порицания и то же время такая невинная, совпала с самыми крупными событиями в истории, какие когда-либо приходилось переживать Западу. Это, конечно, была натура чувственная и вместе с тем нежная, с примитивными и трезвыми понятиями, которые – я надеюсь – переживут все религии. Мне будет невыразимо больно, если история ее жизни навеет скуку на читателя и если окажется, что я исказил ее образ вместо того, чтобы почтить ее память – память этой весьма сомнительной святой, но в то же время такой достойной нашего внимания.
П. Милль.
Маленькие сернистые языки пламени, пробегающие по поверхности моря, то лиловые, то розовые, то синевато-зеленые, походили на цветы, на громадный цветник живых фиалок, гиацинтов, роз. Казалось, они собрались здесь во мраке, освещенном заревом, чтобы поиграть и порезвиться на беспредельной водной равнине.
– Это настоящий праздник, чудесный праздник! – сказала Миррина своему другу Феоктину. – Этим цветам недостает только аромата.
Запах, поднимавшийся от волн, перехватывал дыхание и сдавливал грудь. Неужели можно бояться того, что кажется созданным для утехи глаз? Они сидели под оливковыми деревьями, которые в этом месте доходили чуть ли не до самого края скалы над обрывом. Трава была усеяна мелкими камешками. Миррина и Феоктин, играя, скатывали их ногами с высоты во сто футов в невидимые воды Эгинского залива.
Каждую минуту, подобно искрам, вылетающим из кузнечного горна, далеко на горизонте, гораздо дальше язычков пламени, внезапно вспыхивал огненный сноп – такой высокий, что на мгновение можно было различить по ту сторону залива цепь Мегарских гор, а на востоке темные массы Диапорейских островов, а может быть, и сам Саламин. Раздавался страшный гул, и во мраке вырисовывались очертания гигантской горы, вершина которой, пронизываемая молниями, терялась в небесах: вулкан, вышедший из недр моря!
Носильщики-рабы, рослые, сильные каппадокийцы, стучали зубами от страха, и по толпе, которую Миррина и Феоктин едва успевали различать в рассеивающемся на мгновение мраке, проносился гул ужаса. Феоктин, очень интересовавшийся явлениями природы, сам был недалек от того, чтобы заразиться их страхом. Этот остров, в течение нескольких дней извергающий потоки огня и пламени среди непрерывного грома и гула, казался ему знамением, посылаемым коринфянам разгневанными богами. Не является ли это началом несчастий и невзгод для Эллады и для всей империи?
Меньше полувека тому назад варвары разрушили Коринф, опустошив Фессалию и Аттику. Это были герулы и бастарны, принадлежавшие к многочисленному племени савроматов. Они говорили на языке, похожем на германский, хотя и уверяли, будто начало их роду положено во времена торговли амазонок со скифами. Эти дикари, низкорослые и приземистые, с белокурой бородой и светлыми глазами, буквально наводнили Грецию, сидя верхом на маленьких длинношерстых лошадях или управляя повозками с колесами из цельного дерева, без спиц. Такие колеса выдерживали самые плохие дороги.
Некоторыми из этих дикарей, к величайшему удивлению эллинов, державших своих жен в гинекеях,[1] предводительствовали женщины. Эти предводительницы умели стрелять из лука и скакать на неоседланной лошади не хуже любого мужчины. Их сопровождали странные человеческие существа с тонким женским голосом и округлыми формами – нечто вроде бесполых кастратов. Их выращивали особым искусственным способом: мальчиков в течение долгих лет, по нескольку часов в день, привязывали к спине неоседланной лошади. Таким образом у них постепенно атрофировались семенные железы. Спустя пятьдесят лет эти евнухи были в большой моде в Коринфе: в этом развратнейшем городе Греции они положили начало новым порокам. Поссидий, известный богач, римлянин из рода патрициев, имел несколько таких уродов среди своих любимцев.
И вот в один прекрасный день эти варвары исчезли, и никто не мог объяснить, почему. Их исчезновение приписывали победам божественного Августа – императора Марка Аврелия – в их стране у подножия гор, известных в наши дни под именем Карпатских.
Эти победы были отмечены целым рядом празднеств. С большим торжеством жрецы совершали очищение храмов; в их присутствии в храме на вершине Акрокоринфа, перед изображением Афродиты, происходили священные обряды ритуальной проституции. Один из жрецов будто бы отказался присутствовать на этой церемонии, и коринфяне шепотом передавали друг другу, что он дорого заплатил правителю Перегринусу за то, чтобы тот закрыл глаза на его проступок.
Но Феоктин отлично знал, что победы эти были недолговечны. Аврелиан, для сохранения остатков империи, был вынужден отодвинуть границы за Рейн, до самого Дуная, уступив безымянным народам часть Германии, составлявшей владения Рима, – Дакию и обе Мизии. Ходили слухи, что Диоклетиан намеревается отказаться от престола. Старый, больной, упавший духом цезарь хотел удалиться на покой и поселиться в только что выстроенном дворце на берегу Иллирийского моря.
О Риме никто почти не упоминал. Римский сенат, утративший свое значение и всеми презираемый, внушал некоторые опасения лишь тетрархам – Константину Бледному, Максимиану и Галерию, которые соперничали друг с другом, когда ездили на свидание с Диоклетианом, этим живым богом, в Никомидию, или когда они все съезжались в Милане. А тем временем варвары снова переходили отодвинутые вглубь страны границы в тот самый момент, когда море и небо окрасились заревом зловещего предзнаменования.
– Взгляни-ка, – сказала вдруг Миррина, – взгляни на эти лодки, которые выплывают из-за Кенхрейского мола! Их не меньше ста. Их даже не сосчитать. А вон и совсем маленькие лодочки, и все с зажженными фонарями. Люди в них наклонились, точно бросают гарпун. Только гарпуна не видно: слишком далеко, да и очень темно. А другие как будто опускают в море сети и снова вытаскивают их…
Тогда один из каппадокийцев, у которого было очень острое зрение, сказал:
– Они ловят рыбу, которую убил огонь из воды… Много рыбы!
Миррина захлопала в ладоши и попросила каппадокийца спуститься на мол и купить рыбы. Скоро он вернулся назад, нагруженный тростниковой корзиной, наполненной дорадами, и громадным, почти с него самого, угрем, который висел у него на шее. Он рассказал, что видел там громадных тунцов, таких тяжелых, что двое мужчин не могли поднять их… Рыбы были неподвижны. Каппадокиец указал на их глаза: они были выжжены. Рыбы производили впечатление сваренных и почти были годны в пищу.
Усевшись в носилки, Миррина и Феоктин приказали нести себя через каменоломни в Коринф. Под ногами рабов земля содрогалась, точно море, пронизываемая до самых своих недр таинственным трепетом.
Когда они проходили мимо каменоломни, в густой чаще рожковых деревьев, листва которых образовывала непроницаемый свод над их головами, замелькали какие-то белые пятна и послышалось конское ржание: это были священные лошади Посейдона из большого храма на Истме. Их перевезли в Коринф, так как жрецы боялись землетрясения. Сами они уже больше не входили в целлу, где возвышалось гигантское изображение бога, боясь, чтобы оно не обрушилось на них. Но эти лошади, не знавшие человеческого страха, рвались к откосу, где росли молодые побеги, которыми им хотелось полакомиться, увлекая за собой удерживающих их служителей бога.
Они упирались в землю всеми своими четырьмя копытами, выкрашенными в ярко-красный цвет; на лбу у каждой блестела золотая звезда… Взгляд их широко раскрытых глаз сверкал в темноте ночи: как у Зевса, у них было три ока! Свежий воздух, смолистый аромат рожковых и мастиковых деревьев, казалось, опьянял их: они фыркали и храпели, из их ноздрей вырывалось мощное дыхание. Это были великолепные животные, почти дикие, которые никогда не носили на своих спинах всадников. Миррина залюбовалась ими. Но окружающие ее люди думали: «Что такое случилось, если сам Посейдон-Гиппий не может защитить своих коней от гнева Гефеста? Или он просто не хочет! Боги отвернулись от Эллады. А может быть, правда, что они уж больше не властители мира? Некоторые утверждают…»

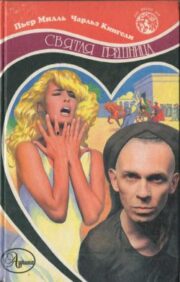
"Святая грешница" отзывы
Отзывы читателей о книге "Святая грешница". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Святая грешница" друзьям в соцсетях.