Но никто не явился передать благую весть мне…
Некоторое время я даже подумывал о том, не вернуться ли домой. Мне вдруг внезапно страшно захотелось сообщить повитухе о той маленькой хитрости, с помощью которой жена бедняги-жестянщика разрешилась от бремени своим первым ребенком. Но очень скоро, поостыв немного, я прогнал ее прочь, решив, что это полное безумие. Во-первых, Айва в своем деле собаку съела — лучшей повивальной бабки во всем Константинополе не сыскать ни за какие деньги. И если в такой ситуации можно было что-то сделать, то она наверняка это сделала. Во-вторых, во всем городе невозможно было найти мужчину, которого бы допустили в комнату роженицы. Но даже если Соколли-паша уже вернулся, то на что он им? Ведь и я сам, и Эсмилькан, а может, уже и повитуха хорошо знали: к тому, что произошло с моей госпожой, его семя не имело ровно никакого отношения. А жив ли Ферхад или же его бренное тело гниет где-нибудь под Астраханью среди тысяч таких же несчастных, известно одному лишь Аллаху. Скорее всего, он мертв, подумал я, И мое услужливое воображение тотчас подсунуло мне картинку: как его душа, угодив прямехонько в рай, соскучилась без своей возлюбленной. И вот теперь, благодаря посеянному в ней семени, пытается сделать все, чтобы она присоединилась к нему. Говорят, погибшие славной смертью на поле боя попадают прямо в рай, несмотря на все свои грехи. А вместе с ними и женщины, умершие во время родов, когда пытались произвести на свет новое поколение правоверных.
Одна мысль об этом погрузила меня в такую печаль, что из груди моей вырвался стон, гулким эхом отразившийся от стен пустой мечети. «А как же я?» — промелькнуло у меня в голове. Увы, о том, чтобы отправиться в рай вместе с моей обожаемой госпожой, нечего было и мечтать. Кто я — ни мужчина, ни женщина! Официально я не имею никакого отношения к ребенку, который сейчас в муках пытается появиться на свет. Впрочем, неофициально тоже, добавил я про себя. То, о чем я думаю, просто смешно. И я смеялся бы, только сейчас мне хотелось плакать.
Но, сидя в тишине в огромной, пустой мечети, я вдруг вспомнил ту ночь несколько недель назад, когда мы с Эсмилькан, уютно устроившись у огня, играли в шахматы. Тогда я, набравшись смелости, напомнил ей о том, как мы точно так же сидели с ней за шахматами — в тот день, наверное, и зародилось ее чувство к Ферхаду. Я упомянул об этом обиняком. Да иначе и нельзя было: мы были не одни. Ее молчание заставило меня предположить, что она, возможно, просто не поняла, на что я намекаю.
Но потом на губах моей госпожи промелькнула легкая улыбка.
— Ты знаешь, Абдулла, — бросила она, по моему примеру из осторожности не называя имени, — когда я увидела его, первой моей мыслью было: до чего же он похож на тебя.
— Если бы я был мужчиной?
— Да.
И Эсмилькан сделала ход — очень ловкий, надо признаться, — который я умудрился проморгать. Но прежде, чем я успел разразиться проклятиями в адрес собственной рассеянности, а она сама — высмеять мою оплошность, лицо ее вдруг изменилось.
— О, Абдулла, он шевелится! — ахнула она, схватившись за живот. — Ребенок шевелится! Ну-ка, потрогай! Чувствуешь? А вот опять! По вечерам он всегда такой подвижный! Да ну же, Абдулла, хватит стесняться! Мне так хочется, чтобы ты тоже почувствовал его!
Позволив уговорить себя, я обошел стол, и Эсмилькан, взяв мою руку, положила ее себе на живот, похожий на опару с поднимающимся тестом. Мне пришлось опуститься на колени, и лицо мое внезапно оказалось совсем рядом с ее собственным. Я вспомнил, как смотрел на изящную розовую округлость ее щеки, невольно изумляясь про себя тому, что чувствую в ней больше жизни, чем под ладонью, которая по-прежнему лежала на ее животе. А она… она так откровенно наслаждалась этим биением новой жизни у себя под сердцем, что вся пылала. Но даже стоя перед ней на коленях в ожидании следующего движения ребенка, я не мог избавиться от омерзительного ощущения: мне казалось, что под этой бархатистой, словно едва созревший персик, поверхностью проглядывают обнажившиеся кости. Мое чересчур буйное воображение вновь сыграло со мной злую шутку, позволив мне на мгновение заглянуть в будущее, увидеть, во что превратится моя цветущая полная жизни госпожа, когда будет гнить в могиле.
С тех пор меня постоянно преследовали недобрые предчувствия, которые я тщетно — возможно, просто будучи не в силах вынести этой мысли, — старался задавить.
Настоящая, бессмертная Эсмилькан, решил я, занимает середину: она — не то цветущее, юное, исполненное жизненной силы тело, приковавшее к себе молодые глаза Ферхада, и не то безликое существо, чей размытый силуэт едва проступал сквозь строки брачного контракта Соколли-паши. Сущность Эсмилькан была совсем иной, и описать ее было труднее, чем природу отражения в зеркале. Я внезапно вспомнил тот первый вечер, когда увидел свою госпожу, одетую в наряд невесты, и то тайное, необъяснимое чувство, связавшее нас на дороге в Кутахию, которое и заставило меня как бы случайно упомянуть, что мы с ней муж и жена. Ну, а я… Кто я на самом деле? Ни мужчина, ни женщина — существо двуполое, соединившее в себе черты и того и другого, я, как никто другой на свете, был расположен к тому, чтобы влюбиться в отражение своей госпожи, в тот отблеск, что она бросала в вечность, — ни живое, ни мертвое, просто иное. Я продолжал свято верить в то, что когда любовь соединяет два человеческих существа, не важно, какого они пола, или Бога и человека, то это и есть истинная, настоящая любовь. И если это так и я прав, то тогда в определенном смысле я имею право считать себя отцом этого еще неродившегося ребенка, причем с куда большим основанием, чем те двое мужчин, которые сейчас далеко от нее, на войне, сражаются и убивают… И ни один из них ни за какие сокровища в мире не отказался бы от этого ради того, чтобы тихим зимним вечером сидеть рядом с ней, ощущая под своей ладонью первые движения ребенка и глядя на свое отражение в вечности.
Если так, то я первый, кто виноват в тех жестоких муках, что рвут в этот момент на части тело моей госпожи. Речь сейчас шла не о той безумной, слепой мести, что заставляет мужей убивать евнухов, а вслед за ними и неверных жен, когда их преступление выплывает на свет. Что, если все дело в том, что тот странный Бог Аллах, чью волю я, возможно, понял и истолковал превратно, решил самолично покарать смертный грех прелюбодеяния, оставшийся тайной для глаз простых смертных? Тогда Его отмщение настигнет и меня. Я знал это — знал это так же хорошо, как и то, что не смогу жить без Эсмилькан, просто не захочу остаться один, если ее образ канет в вечность. И если Соколли-паша не убьет меня собственной рукой, тогда я сам свершу над собой казнь, решил я, бродя по опустевшей мечети.
Когда утренний крик муэдзина с верхушки минарета призвал правоверных к молитве и мое уединение было нарушено толпами мужчин, наводнивших мечеть, я тоже молился вместе с ними, но в душе моей уже не осталось прежней веры. Аллах перестал быть Богом — теперь он стал для меня вздорным господином, к которому я уже не чувствовал прежнего доверия. После молитвы я вернулся домой.
Там я узнал, что пока меня не было, ребенок перевернулся и двинулся наконец к свету по предназначенному ему самой природой пути.
— Слава Аллаху, — с облегчением выдохнул я.
В ответ Айва только устало покачала головой. В глазах ее стояла печаль. Увы, в этой суматохе у нее не осталось времени, чтобы прибегнуть к своему обычному лекарству, и реальность, обрушившаяся ей на плечи, измучила ее куда сильнее, чем долгие часы бодрствования у постели моей госпожи.
— Да, конечно. Но теперь твоя госпожа слишком измучена, и у нее даже не осталось сил, чтобы тужиться. Боль накатывает на нее волна за волной, каждый раз унося с собой частичку ее, как отлив уносит песок, постепенно размывая берег. Даже не знаю, хватит ли у нее сил. Это известно одному лишь Аллаху.
То, что я узнал, заставило меня вновь сбежать из дома и искать убежища на улицах Константинополя. А причина, которую я придумал, чтобы оправдать свой уход, о якобы срочной необходимости выяснить хоть что-нибудь о возвращении армии, стала только предлогом, поскольку от всех моих расспросов не было абсолютно никакого толку. Только уже под вечер по узким улочкам Константинополя стали понемногу расползаться слухи. Пока это была лишь обычная болтовня, в которой, однако, крылась немалая толика правды. Говорили о страшном несчастье, постигшем армию. Несколько уцелевших судов были замечены вблизи Пера, но они оказались слишком потрепаны штормом, чтобы отважиться сделать попытку приблизиться к берегу, когда уже начало смеркаться.
— Соколли-паша после такого позора не осмелится показаться в городе, — вещал какой-то человек. — Вот попомните мои слова, султан ему этого не простит. За такое дело он запросто слетит со своего поста!
Итак, не услышав ничего обнадеживающего, я был вынужден вернуться домой. Весь дом словно вымер. Даже у дверей родильной комнаты не было ни души.
— Все бесполезно, — горестно покачала головой Айва. — Мы уже ничем не можем ей помочь. Она так слаба, что даже не может сидеть на родильном стуле. Аллах свидетель, боюсь, у меня нет другого выхода — я могу только разрезать живот и извлечь ребенка!
Я похолодел. Разрезать роженице живот, чтобы извлечь ребенка означало неминуемую смерть матери.
— Клянусь, если ты это сделаешь, я возьму нож и всажу его себе в сердце еще до того, как на нем остынет кровь моей госпожи! — вскричал я.
Не сказав ни слова, я отшвырнул старуху в сторону, осыпав ее страшными проклятиями. Одним прыжком я влетел в комнату, не заметив, что рассыпанный возле порога порох разлетелся в стороны — теперь кто угодно мог смело войти или выйти из комнаты, да и какой теперь в нем прок, если моя госпожа, возможно, уже мертва? Для чего он теперь — разве что забить его в пушку да выстрелить, убив при этом несколько ни в чем не повинных людей, чтобы их души сопровождали Эсмилькан в рай? Я грубо растолкал сбившихся в кучку измученных женщин, чье монотонное причитание «Аллах Акбар» уже превратилось в беззвучный хрип. Забыв о роженице, они утирали свои вспотевшие лица. Наклонившись, я поднял Эсмилькан на руки — бедняжка бессильно распростерлась на ковре, словно груда тряпья. Казалось, жизнь уже покинула ее, но стоило мне взять ее на руки, как судорога боли, прокатившись по всему ее телу, исказила обескровленное, похожее на маску смерти лицо.

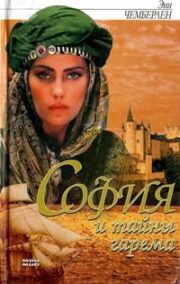
"София и тайны гарема" отзывы
Отзывы читателей о книге "София и тайны гарема". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "София и тайны гарема" друзьям в соцсетях.