— Когда, если будет на то воля Аллаха, мой сын вырастет и станет мужчиной, он сам будет султаном. И тогда ему придется узнать все — и о Диване, и о янычарах, и о войне — и научиться всему, чтобы править страной. Аллах свидетель, я сделаю все, чтобы он не превратился в такого султана, который только и делает, что нежится на подушках в гареме, окруженный толпой своих фавориток, когда его армия идет воевать!
— Ну почему обязательно фавориток? — усмехнулась Эсмилькан. — Пусть нежится с тобой. По-моему, очень неплохая мысль, особенно если приучить его к ней заранее.
— Но как я смогу научить его всему, если сама ничего не знаю об этом?
Эсмилькан молчала, явно не зная, что ответить… Впрочем, может, она и знала ответ, но благоразумно решила оставить его при себе, до поры до времени упрятав куда-нибудь в самый дальний уголок своего сердца, где он был бы в безопасности — в точности, как ребенок в ее чреве.
Мы уже повернулись, чтобы присоединиться к остальным женщинам, как вдруг Сафия случайно перехватила мой взгляд, и я в очередной раз подивился тому, до чего же острый у нее глаз. Словно споткнувшись на месте, она застыла и обратилась ко мне по-итальянски:
— Тебе ведь все известно, не так ли, Веньеро? Ты был там, когда они перенесли к вам в дом совещание Дивана, и ты все слышал. Да уж, можно не сомневаться, что ты не упустил ни слова из их разговора — у тебя не только младенцы на уме, верно?
Я слегка улыбнулся.
— Расскажи мне, — взмолилась она. — Я прошу тебя! Скажи, куда они отправились и зачем?
— Думаю, моя госпожа дала вам верный совет, — по-турецки ответил я. — Было бы куда лучше, если бы вы побольше времени уделяли своему сыну.
XLII
Не прошло и получаса после того, как я отправил в Астрахань верхового гонца с запиской для Великого визиря, в которой говорилось, что его супруге пришел срок разрешиться от бремени, как в дверь постучал другой гонец, явившийся прямиком из армии. Должно быть, они просто разминулись где-то в узких улочках Константинополя, а может, и нет. Вероятно, они даже встретились, на скаку бросив друг другу: «Счастливого пути!»
Однако новости, привезенные гонцом, прибывшим из армии, отличались от тех, которые послал визирю я, как ночь отличается от ясного погожего дня. Вторжение в Астрахань позорно провалилось. И хотя поначалу все шло гладко и можно уже было рассчитывать на победу, но внезапно появившееся войско русских численностью не менее пятнадцати тысяч, подоспевшее на помощь, свалилось, словно гром среди ясного неба, прямо на голову безоружных турок, копавших канал и ни сном ни духом не ведавших об их приближении. Схватка оказалась яростной, но короткой. Турки были разбиты наголову. Похоже, Аллах с самого начала был против этого похода, потому что даже из тех, кому в суматохе боя удалось ускользнуть незамеченным и кто не был схвачен и изрублен в куски, пока пробирался к кораблям, назад на родину вернулось только семьсот человек. Жестокий ураган невероятной силы, неожиданный для этого времени года, разметал и потопил добрую половину турецкого флота.
По словам гонца, Соколли-паша догадывался, что ужасная весть о разгроме турецкой армии опередит его и доберется до Константинополя раньше, поэтому и послал его с письмом, чтобы Эсмилькан не тревожилась понапрасну. Ему очень хотелось бы, чтобы она знала: несмотря ни на что, он, ее супруг, жив и, если будет на то воля Аллаха, очень скоро вернется домой.
Отправив гонца в казармы, я долго медлил, собираясь с духом, прежде чем решился наконец подняться в ее комнату и принести эту печальную весть. Вначале у меня мелькнула мысль, что, может быть, стоит подождать с этим — хотя бы до того момента, как ребенок появится на свет. Но потом я решительно отмел ее в сторону. К этому времени моя госпожа научилась читать у меня по лицу, так что будет лучше, если она узнает обо всем от меня, а не станет тревожиться понапрасну, ломая себе голову, что же могло случиться.
Набравшись храбрости, я выложил ей все без утайки. Жалобный крик сорвался с ее губ, когда я закончил, но, возможно, причиной была боль, а вовсе не мои слова. Впрочем, сказать с уверенностью я не мог.
— Прошу вас, госпожа, не тревожьтесь, — взмолился я. — Все страшное уже позади. Ваш супруг просил передать, что он, слава Аллаху, жив и очень скоро вернется домой.
— Да, но…
Волна боли, еще мучительнее прежней, снова захлестнула ее, помешав Эсмилькан договорить, но я понял ее без слов. Даже сейчас она не могла не тревожиться о судьбе, которая постигла отца ее еще неродившегося ребенка.
— Простите, госпожа, но мне ничего не известно. Я попробую узнать, что возможно, и тут же дам вам знать, если что.
Она ничего не ответила, только благодарно кивнула мне. Из глаз ее брызнули слезы. Поклонившись, я вышел из комнаты.
Домой я вернулся, когда уже совсем стемнело, увы, с пустыми руками. Мне ничего не удалось узнать. О сокрушительном поражении, постигшем нашу армию, не знала еще ни одна живая душа.
— Тяжелые роды, — этими словами приветствовала меня Айва.
Вдоль порога комнаты, где лежала роженица, тянулась тоненькая полоска пороха. Пока меня не было, повитуха рассыпала его возле двери. Я знал этот старинный обычай. Знал я то, что если сейчас переступлю порог, то мне уже не позволят выйти из комнаты родильницы: по поверью, это могло лишить ее сил. Считается, что в таком случае женщина только напрасно мучается от боли, не в силах произвести на свет дитя. Мне это было отлично известно, поэтому я остался за дверью, и только изредка осмеливался приоткрыть ее, чтобы взглянуть на свою госпожу. Внутри было темно, а из-за густых клубов дыма, тянувшихся к потолку от горевших в очаге поленьев ароматного сандалового дерева, смешанных с ладаном и другими благовониями, которые, как издавна считалось, облегчают родовые муки, казалось еще темнее. Воздух в комнате был настолько спертый, что у меня запершило в горле. Честно говоря, мне было непонятно, как там вообще можно дышать, и я внутренне содрогнулся, представив себе лицо моей бедной госпожи — бледную, бескровную маску страданий, залитую потом и слезами. В непроглядной тьме только тускло мерцал инкрустированный золотом переплет огромного Корана, который Айва заранее подвесила к потолку — как раз над тем местом, откуда должен был появиться на свет ребенок. Прищурившись, я с трудом смог разглядеть фигурку своей госпожи, скорчившуюся на родильном стуле, а вокруг нее толпой сгрудились служанки и рабыни, готовые в любую минуту кинуться ей на помощь.
Женщины, раскачиваясь, монотонно нараспев повторяли: «Аллах Акбар!» Эсмилькан в перерывах между мучительными схватками присоединяла свой слабый голос к этому хору. Ледяной пот пополз у меня по спине — этот заунывный напев временами напоминал похоронный плач.
— Дитя идет ягодицами вперед, — шепотом предупредила меня повитуха, — а мне до сих пор так и не удалось его повернуть.
И хотя мои знания касательно того, как устроены женщины, в особенности внутри, были практически равны нулю, все же я вспомнил, что полгода назад здесь, во дворце, умерла родами одна рабыня, ребенок которой тоже шел ягодицами. От этой мысли я едва не лишился чувств. Лоб мой покрылся холодным потом, ноги моментально стали ватными. Но поскольку здесь толку от меня все равно не было, я вернулся к себе в комнату и постарался заняться обычными делами, старательно делая вид, что ничего не произошло.
В конце концов плач и причитания женщин сделали свое дело, выгнав меня из дома. Пробравшись через сад, я вышел за ограду и углубился в узкие темные улочки города. Но эхо их голосов, казалось, преследует меня и здесь, даже когда в поисках прибежища я забрел в пустующую мечеть в самом конце улицы. Медленно тянулись часы. Я метался из угла в угол, молился и плакал (не как мужчина, нет, но сейчас это почему-то нисколько не волновало меня), когда меня вдруг точно молнией поразила мысль о том, насколько же я беспомощен.
Оказалось, что в мечети я был не один. Бесцельно слоняясь из угла в угол, я вскоре наткнулся на какого-то человека — то ли лудильщика, то ли жестянщика, я так и не понял. Закутавшись в одеяла, он вместе со своими двумя маленькими сыновьями, которые уже спали, тоже ждал, когда его жена разрешится от бремени их шестым ребенком. Приглядевшись, он вскоре осмелел настолько, что осмелился окликнуть меня. Мы разговорились, и бедняга принялся успокаивать меня, непринужденно и даже весело рассказывая о том, как дети появляются на свет. Подумаешь, роды, заявил он, самое простое дело!
— Неужели у вашей жены все всегда было легко и гладко? — удивленно осведомился я.
— В самый первый раз не очень, — вынужден был признаться мой собеседник. — Дело дошло до того, что меня даже попросили подняться в комнату родильницы. А когда я вошел, жена обрушилась на меня с проклятиями. О Аллах, как она ругалась! Она поклялась, что разделается со мной — пусть только то, что я посеял в ее чреве, благополучно появится на свет. И… о чудо! Сразу же после этого — слава Аллаху! — раздался громкий крик ребенка! После такого чудовищного оскорбления я мог бы за милую душу и без малейших угрызений совести отвергнуть ее, оставив себе ее приданое, вместо того чтобы вернуть его ее отцу, как велит обычай. Но ради чего, спросил я себя? Ведь она всегда была мне доброй женой, да благословит ее Аллах. Поэтому я выбросил все это из головы, и теперь моя жена исправно рожает каждый год по младенцу. Словно крольчиха, ей Богу!
Я слушал его легкомысленную, добродушную болтовню, испытывая неимоверное желание придушить беднягу. Чего ему вообще вздумалось привязаться ко мне со своими глупыми разговорами, когда мне так хотелось остаться одному? Однако надо отдать ему должное: этот несносный болтун хорошо знал, как убить время. К тому времени, как за ним явилась старшая дочь и сообщила о благополучном появлении на свет еще одного здорового ребенка, мальчика, и он оставил меня в покое, пожелав всяческого счастья, я с некоторым удивлением заметил, что время уже перевалило за полночь.

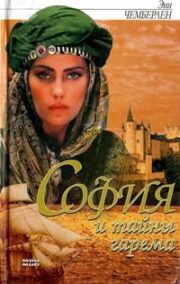
"София и тайны гарема" отзывы
Отзывы читателей о книге "София и тайны гарема". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "София и тайны гарема" друзьям в соцсетях.