Избранная им в этом мире скромная и не требующая живости должность писаря, наверное, одна только и могла дать ему обманчивое чувство принадлежности к племени человеческому. Вся прочая его часть, свободная, поёт, слушает оркестры, сочиняет музыку – одним словом, изобличает того самого шестилетнего мальчика, который лез внутрь всех часов, забирался даже в часы на башне мэрии, коллекционировал эпитафии, неустанно вытаптывал эластичный мох и от рождения играл на пианино… Он с лёгкостью обретает всё это снова, по-прежнему чувствует своё тело ловким и проворным, каким оно и остаётся, и прекрасно чувствует себя в мире своих призрачных владений, где всё построено по вкусу и прихотям ребёнка, который, и в ус не дуя, живёт уже шестьдесят лет.
Все дети – увы! – ранимы. И когда его возвышенные представления разбиваются о коварную реальность, он иногда приносит мне их обломки…
Ручьисто текущие сумерки, густо задрапированные дождём и тенями под каждой аркадой Пале-Руайяля, привели его ко мне. Я не видела его несколько месяцев. Вымокший, он присел у моего очага, рассеянно поглощал свою основную пищу – тающие во рту конфеты, насквозь просахаренные пирожные, сироп, – открыл мои часы, потом мой будильник и долго слушал их, не произнося ни слова.
Я же оглядывала украдкой длинное лицо, почти совсем белые усы, голубые глаза отца и нос, крупный нос Сидо – уцелевшие черты, обязанные своей сохранностью расположению костей, и незнакомые, неизвестно откуда взявшиеся морщины… Долговязая и бескостная фигура, освещённая огнём, нежная и растерянная… Но обычаи и нравы нашего детства – скромность, деликатность, независимость – ещё так сильны в нас, что я ни о чём не спросила брата.
Когда он наконец высушил поникшие крылья, отягощённые дождём, – так он называл своё пальто, – он закурил, прищурившись, потёр сухие красные руки, ни в какую погоду не знавшие тёплой воды и перчаток, и заговорил.
– Сказать тебе?
– Да.
– Я был ТАМ, понимаешь?
– Да ну?! Когда?
– Только что оттуда.
– Ах! – говорю я восхищённо. – Ты был в Сен-Совёре? Как там?
Он самодовольно подмигивает мне.
– Шарль Фару отвёз меня на своём авто.
– Старина!.. Но как же это здорово, там хорошо в это время года?
– Неплохо, – отвечает он коротко.
Он раздувает ноздри, снова темнеет лицом и умолкает. Я опять принимаюсь писать.
– Сказать тебе?
– Да.
– ТАМ я был у наших Скал, понимаешь?
В памяти моей вырисовывается песчаная дорога среди холмов – змей, отползающий от оконного стекла…
– А!.. Ну и как там всё? И лес на вершине… И павильончик? Наперстянки… вересковые поляны…
Брат присвистывает.
– Всё срезано. Больше нету. Сбрили. Голая земля. Всё голое…
Он рассекает ладонью пустой воздух, глядя на огонь, и плечи его трясутся от смеха. Я уважаю этот смех и не передразниваю его. Но старый сильф, продрогший, задетый за самое живое, не может больше сдерживаться. Он использует эффект светотени, который даёт красноватый огонь.
– Это ещё не всё, – шепчет он. – Я сходил на Пирожный двор…
…О, не оставляйте меня, наивное прозвище жаркой террасы сбоку от разрушенного замка, окаймлённой чахлым древним шиповником, густая тень, цветущий плющ, которым пропахла сарацинская башня, шершавые красноватые от ржавчины воротца, запиравшие Пирожный двор…
– И что, старина, и что же? Мой брат как-то съёживается.
– Минутку, – командует он. – Начнём с начала. Я прибываю в замок. Там теперь богадельня, потому что так захотел Виктор Гандриль. Вот. Но я нисколько не против. Я вхожу в парк и шествую нижней тропой, той, что возле дома госпожи Бийетт…
– Госпожа Бийетт?.. Да она по меньшей мере лет сорок как умерла!
– Ну, может быть, – беззаботно отвечает брат. – Да… Кажется, мне называли другую фамилию… невозможно выговорить… Что ОНИ хотят – чтобы я помнил фамилии людей, с которыми не знаком!.. Ну вот, иду нижней тропкой, подымаюсь липовой аллеей… И знаешь, псы не лаяли, когда я открыл дверь, – говорит он раздражённо.
– Ах, старина, это не могли быть те же самые псы… подумай сам…
– Да, да… Но это не важно… Я уже не говорю о том, что они посадили картошку там, где раньше росли маки и «сердце Жанетты»… Не стоило бы и о том, – голос его становится нетерпеливым, – что вход на лужайку теперь ограждает железная проволока… загон из проволоки… но как подумаешь, что же это происходит… кажется, это для коров… Для коров!
Он качает коленом, сцепив на нём руки, и свистит с грустным видом, который ему к лицу, как и высокая шляпа.
– Это всё, старина?
– Минуту! – повторяет он свирепо. – Потом я выхожу к каналу – если можно, – говорит он с язвительной ухмылкой, – назвать каналом эту вонючую лужу, этот суп из комаров, приправленный коровьим дерьмом… Ну да ладно. Иду. Вхожу на Пирожный двор, и тут…
– И тут?..
Он полуоборачивается ко мне, не видя меня, и губы его мстительно вздрагивают.
– Сказать по правде, мне не понравилось уже то, что ОНИ сделали с внутренним двориком – у решётки, там, за конюшней, теперь вывешивают сушить бельё… Да, вот так! Но я не обратил на это внимания, потому что ждал «минуту решётки».
– Какую «минуту решётки»?
Он нетерпеливо барабанит пальцами.
– Ну, ну… Ты помнишь ту щеколду?
Я словно опять за неё схватилась – гладкую, оплавленную защёлку из чёрного железа, – я действительно вижу её…
– Да. Всякий раз, как её поворачивали, – он показывает жестом, – она открывалась под тяжестью своего веса, и, отворяясь, она говорила…
– …«и-и-и-ан…» – пропели мы в один голос на четыре ноты.
– Да, – говорит брат, снова качая коленом. – И я повернул её… И ждал, что всё будет как тогда… Я прислушался… Знаешь, что ОНИ сделали?
– Нет…
– ОНИ смазали решётку маслом, – говорит он равнодушно.
Он ушёл очень скоро. Ему нечего было больше сказать мне. Вымокшие перепонки больших его крыльев снова расправились, и он ушёл – маленький дикарь, тщетно вслушивающийся в растаявшую четвёрку нот, в чьей музыке были отзвуки старой калитки с полосой ржавчины и налипшими песчинками – нежнейшие из некогда поднесённых ему музыкальных даров, которых отныне он лишился навсегда.
– Как у тебя дела с Мериме?
– Мне за него полагается десять су.
– Надо же… – удивлялся старший.
– Да, – признавался младший, – но я задолжал три франка.
– Кому?
– Виктору Гюго.
– Какой том?
– «Песни лесов и улиц» и не помню, что ещё. Чёрт бы его драл!..
– А ещё, – торжествовал старший, – ты должен читать быстрее! Гони три франка!
– Где я тебе их возьму? Нет ни гроша.
– Спроси у мамы.
– Ага!
– Тогда у папы. Скажи, что тебе надо тайком от мамы, чтобы купить сигарет. Он тебе даст.
– А если не даст?
– Будешь платить пени. Пять су за задержку!
Этим двум дикарям, читавшим так много, как во все времена читали все отроки от четырнадцати до семнадцати лет – запоем, самозабвенно, денно и нощно, на верхушках деревьев, на сеновале, – не нравилось слово «миньона» – милочка, – которое они выговаривали как «мини-она», с чудовищной кривой ухмылкой, после чего делали вид, что их тошнит. Отыскиваемая в каждой книге, каждая «миньона», подвергшись сначала остракизму, приносила по два су в общую кубышку. Зато книга, оказавшаяся «чистой», приносила десять су тому, кто прочитал её первым. Этот договор был в силе два месяца, и деньги, накапливавшиеся к концу срока, тратились на лакомства, сачки для охоты на бабочек и верши для ловли пескарей.
Мой юный возраст – мне было только восемь – не позволял мне войти в их сообщество. Я была ещё так мала, что лишь недавно перестала, соскребая с ножек стола подтёки, упадавшие с горящих свечей и застывавшие длинными капельками, пробовать их на вкус, и оба мальчугана ещё звали меня «дитя-казак». Однако я уже умела говорить «мини-она» и кривить при этом рот, с удовольствием рыгая в знак отвращения, и романистов я оценивала по принятому в семье статусу.
– Диккенс даёт доход, – говорил один дикарь.
– Диккенс не в счёт, – огрызался второй, – это перевод. Все переводчики нас надувают.
– Тогда и Эдгар По не пойдёт?
– Э-э… Здравый смысл призывает также исключить исторические романы, которые наверняка принесут по десять су как минимум. Революция не «милочка» – бе-е! – Шарлотта Корде не «милочка» – бе-е! – и Мериме, между прочим, тоже надо исключить, как автора «Хроники времён Карла Девятого».
– А как быть с «Ожерельем королевы»?
– Это пойдёт. Это роман чистый.
– А эти, Бальзака, про Катерину Медичи?
– Ну ты как дитя малое. Пойдёт, конечно.
– Ну уж нет, старина, позволь…
– Старик, я взываю к твоей совести… Умолкни. Идём на улицу.
Они никогда не ругались. Растянувшись на кровле, у самого конька, они жарились на полуденном солнцепёке, горячо и необидно споря, предоставив мне верхний, покатый жёлоб. Оттуда были видны вся Виноградная улица, пустынный переулок, выходивший к огородам, разбросанным в ложбине святого Иоанна. Заслышав вдали звук шагов, братья внезапно умолкали и, распластавшись на крыше, воинственно вздёргивали подбородки при виде извечного противника, так на них похожего…
– Это просто Шебрие идёт в свой сад, – сообщал младший.
Забывая все споры, они ловили косой отблеск лёгкого привета поры более жаркой, пока ещё проплывавшей мимо. Иная походка, живые и отчётливые шаги постукивали по горбатым камням. Сиреневое платье, пышный куст взбитых волос медно-розового цвета озаряли верхнюю улицу.
– Эй, рыжуха! – окликал, присвистывая, младший. – Эй, морковка!
Ему было всего четырнадцать, и он терпеть не мог «девчонок», которые ослепляли его своим восходящим светом.
– Это Флора Шебрие, она к отцу идёт, – говорил старший брат вслед золоту и сирени, угасавшим в нижних переулках. – Какая она стала хорошенькая!

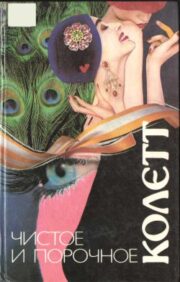
"Сидо" отзывы
Отзывы читателей о книге "Сидо". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сидо" друзьям в соцсетях.