Я невольно кивнула, с большей готовностью, чем могла предположить. Ко мне возвращались обрывочные воспоминания: вот Елизавета выбегает из большого зала в Челси и на мои слова о том, что Джон Клемент уехал, белеет как стена; вот она спускается по лестнице и крадет у меня болотную мяту; вот она печально слушает мастера Ганса, рассказывающего ей о материнстве. При всех подозрениях и ревности в наших отношениях в душе зашевелилось нечто похожее на жалость. Буря внутри начала утихать. Я почувствовала какой-то новый мир, теплую тишину, которой никогда прежде не испытывала. Я украдкой посмотрела на отца, ожидая увидеть такое же спокойное лицо, и почти удивилась, заметив его беспокойство. Он смотрел вниз, как бы подбирая слова.
— Они сделали все, пытаясь искупить свой грех, — медленно сказал он. — Теперь ты должна так же честно поступить со своим. — Я затрясла головой. Я еще не думала об этом. На меня нахлынули воспоминания о тяжелом теле Ганса Гольбейна. Красивое будущее спуталось. Не обращая на это внимания, отец решительно продолжил: — Нет, выслушай меня. Ты думаешь, что полюбила гений Гольбейна. Ты полагаешь, это интереснее, чем спокойная жизнь, выбранная Джоном. Я понимаю тебя. У нас было слишком много тайн, и ты увлеклась страстью Гольбейна говорить правду. Я и сам с восхищением наблюдаю, как работает его ум. Он сам иногда этого не понимает.
Но, находясь под таким сильным впечатлением, ты ошибочно считаешь, будто ради этого можно бросить все, чего ты добилась в жизни. Жить с гением — все равно что брать в руки огонь или лед. Гений слишком жесток. Посмотри хотя бы, что случилось за эти несколько дней. Мастер Ганс не задумываясь раскрыл в картине тайну, которая не могла вызвать у тебя ничего, кроме боли. Это его огонь. Его дар согревает и будоражит людей, но того, кто подойдет слишком близко, он просто спалит. Я не сомневаюсь в том, что он любит тебя, но что дала любовь к нему семье, оставленной им в Базеле? Уйдя к нему, ты какое-то время будешь счастлива, но это счастье может оказаться очень непрочным. Ты будешь обесчещена. Наконец, рано или поздно он сделает тебе больно — возможно, погубит, поскольку самая большая страсть Ганса Гольбейна — его живопись.
С Джоном все иначе. Джон познал дикие страсти, но подавил их, пытаясь стать достойным тебя. Иногда, правда, они еще прорываются. Ты это видела, я это испытал. — Он погладил щеку, по которой ударил Джон. — Но его страсть — ты. Так было всегда. Потеряв тебя, он погибнет.
Джон Клемент полностью изменился ради тебя, и это не меньшая ценность, чем гений. Ты можешь обрести с ним истинное счастье, если ради него тоже научишься жертвовать собой. Вы можете построить красивую и благородную жизнь. Если ты найдешь в себе для этого мужество, она преобразит вас и станет тебе наградой, как и ему. — Его лицо избороздили не только тени от дождевых струй; он плакал. — Ты всегда будешь важнее для Джона, чем когда-либо могла бы стать для Гольбейна. И это не все. — Он мягко посмотрел на меня, казалось, не замечая своих слез. — Сохранив брак, тебе удастся сохранить себя. Джон всегда будет радоваться вместе с тобой успехам в медицине, детям, семье. Он не проглотит тебя, он даст тебе дышать, и тебе не придется выбирать меньшее из зол. — Я все еще чувствовала на теле жар Ганса Гольбейна, свои царапины, его щетину, слюну, но эти воспоминания уже начинали казаться горячечным бредом. Отец обнял меня обеими руками, и мы стояли совершенно тихо, слыша лишь дыхание друг друга. — Тебе не будет так трудно, как Елизавете, — прошептал он, будто не видя, что меня больше не нужно убеждать. — Все, что от тебя требуется, — это простить Джона. Простить себя. Вернуться к своей жизни. Научиться жить с человеком, который в отличие от тебя перестал бороться.
— Да, — прошептала я в ответ. — Я так и сделаю.
Слезы по его щекам побежали быстрее, и я услышала глубокий грудной вздох. Через мою шею он дотянулся рукой до лица и вытер слезы.
— Вино ангелов, — пробормотал он, едва заметно улыбнувшись. Слова из моего детства, заставившие улыбнуться и меня. — Я был глупцом. Но теперь пора стать честным или погибнуть. Спасибо.
После долгой паузы под звуки дождя я тихо спросила:
— А ты не можешь сделать кое-что еще, отец? Отказаться от борьбы, от своих памфлетов? Не можешь просто остаться с нами и быть счастливым?
Он поднял на меня влажные глаза, и я поняла — моя надежда несбыточна. Он никогда этого не сделает. Нужно примириться.
— У нас, возможно, не так много времени, — сказал он, вытирая слезы с моего лица. — Давай попытаемся быть счастливы тем, что имеем.
Гольбейн все утро прождал в комнате. Рассматривая свою картину, он мучился все больше, вздрагивал при каждом стуке в окно, но когда подбегал к свету, лица Мег там не видел. Только поломанные ночной грозой стебли плюща.
Прежде у него никогда не пропадал аппетит, но теперь он смотреть не мог на еду. Однако в полдень все же выполз из своей берлоги и, набравшись смелости, присоединился к семейному обеду. Он нестерпимо жаждал просто увидеть ее, даже если бы для этого ему пришлось вытерпеть предательницу Елизавету и мучительные, загадочные намеки сэра Томаса. Ни Елизаветы ни Мора, ни Мег не было.
— Вы совсем не едите, мастер Ганс, — забеспокоилась Маргарита Ропер. — Прежде вы никогда не отказывались от наших блюд. Может быть, хотите требухи? Я могу еще что-нибудь вам предложить?
Он вернулся к себе в комнату как раненый зверь, сел и стал смотреть в окно на холодный день. К нему пришли дети. Они, правда, вели себя тише, чем накануне, но опять хотели, чтобы он их пощекотал, повозил, опять хотели играть и дурачиться с его красками. Он постарался собраться и даже вяло покатал Томми. Но дети почувствовали — что-то не так. Смех постепенно замер, и они неуверенно посмотрели друг на друга. Их спас мерный топот лошадиных копыт на дворе.
— Папа! — с восторгом закричал Томми, которого он катал на спине, и все дети с воплями вылетели из комнаты.
Гольбейн пошел за ними и остановился на крыльце. Перед ним мелькнул усталый, смуглый орлиный профиль, Джон Клемент спрыгивал с лошади. Наконец появилась Мег. Он ожидал увидеть непокорную, хотя и сознающую свой долг жену, с опущенными глазами и тревожно вздернутыми плечами, но она плавно вышла из дома, держа под руку отца, и лицо ее сияло таким счастьем, какого Гольбейн никогда не видел.
— Джон! — воскликнула она, оторвавшись от Мора, рванулась вперед и бросилась в объятия мужа.
Клемент на мгновение удивился, затем обнял ее, поцеловал в макушку, и его красивое лицо выразило почти что обожание, согнавшее усталость. Гольбейн увидел любовь. Смотреть на это дальше было непереносимо. Он скрылся в саду, он почти бежал к промокшей бузине по той самой дорожке, по которой в другой жизни шел вместе с Мег. Бросившись на землю, художник заметил тускло мерцающий мелкий жемчуг. Вероятно, он выпал этим утром из ее чепца. Он обхватил голову руками, скорчился и дал волю своему горю.
Он не знал, сколько прошло времени. Вдруг до его плеча дотронулась мягкая маленькая рука. На долю секунды в нем вспыхнула надежда, но, подняв глаза, он увидел красивое, с заостренными чертами, грустное лицо Елизаветы. Не то лицо. Он опять застонал и закрыл лицо грязными руками.
— Вам плохо, мастер Ганс? — неожиданно ласково спросила она. — Я могу вам чем-нибудь помочь?
Гольбейн попытался взять себя в руки. Он не знал, что случилось, но доверял своей интуиции, а она говорила ему — он проиграл.
— Нет… нет, — промычал он, отчаянно пытаясь дышать ровнее. — Живот что-то схватило… не беспокойтесь.
Она мягко положила ему руку на лоб.
— Я гуляла и услышала вас.
— Ничего страшного, — снова простонал он, больше всего боясь остаться в одиночестве.
Но он ничего не мог с собой поделать и содрогался от рыданий. Она долго молчала, а затем наклонилась и поцеловала его в лоб.
— Мне очень жаль, что вам плохо, не важно от чего, — сказала она. — Но вы из тех людей, которые всегда поднимаются, мастер Ганс. Я это знаю. Я тоже такая. Когда-то давно вы помогли мне понять это. Я буду молиться за вас.
На мгновение придя в себя от этих слов, он поднял голову. На него смотрели красивые темные глаза, прекрасно знавшие, что такое печаль.
— А я за вас, — пробормотал он, поднимаясь на ноги.
Мор видел, как Мег с Джоном Клементом вышли из гостиной, на время превратившейся в мастерскую. Он, не двигаясь, стоял в тени лестницы.
— Ты сможешь когда-нибудь простить меня? — спросил Джон Клемент жену, нежно обнимая.
— Сможешь ли ты когда-нибудь простить меня? — прошептала она в ответ, прижимаясь к нему.
Бывший лорд-канцлер Англии подождал еще несколько секунд, затем кивнул самому себе и на цыпочках удалился. Дочь и ее муж целовались и не слышали его шагов.
Удивленная Маргарита Ропер просунула голову в дверь общей гостиной.
— Я нигде не могу найти мастера Ганса, а скоро ужин. Не понимаю, куда он мог деться.
— Он уехал. — Ее отец смотрел в окно: У него были заплаканные красные глаза, но голос звучал довольно бодро. — Ему нужно в Лондон.
— Но он оставил все свои вещи! — изумленно воскликнула Маргарита. — И даже не показал нам картину!
— Он очень спешил, — лаконично ответил Мор, отворачиваясь от окна.
Он смотрел на маленькую, сгорбившуюся на лошади фигуру до тех пор, пока она под мерный стук копыт не исчезла за вершиной холма. Он прощался не только с Гансом Гольбейном, человеком, которому он доверял, которого уважал и которого больше не увидит в этой жизни, но и с целым миром разума, куда вступил когда-то вместе с почти исчезнувшим поколением талантливых людей.
Двумя пальцами он ухватился за переносицу и нетерпеливо смахнул слезы. Он больше не нуждался в вине ангелов. Он сделал для своей дочери все, что мог.

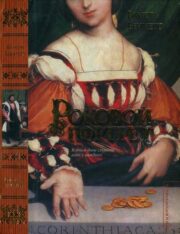
"Роковой портрет" отзывы
Отзывы читателей о книге "Роковой портрет". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Роковой портрет" друзьям в соцсетях.