Кроме меня. Я хоть и таращилась старательно вместе с остальными на реку, но высматривала, уж конечно, не немецкого ремесленника, раскачивающегося на далеких волнах посреди, подпрыгивающих и замызганных после долгой дороги сундуков и тюков. Он все равно вот-вот появится. Куда он денется? Ведь написав наши знаменитые лица, он приобретет вес и шанс сделать себе имя художника. Но я ждала не его. И хоть это был страшный секрет, эдакое ребяческое ожидание — поскольку у меня не было весомых причин верить, что моя мечта осуществится и я увижу столь желанное лицо, — напряжение, с каким я всматривалась в каждую проплывающую лодку, не убывало. Я ждала моего бывшего учителя. Мою надежду на будущее. Человека, которого я любила.
Джон Клемент появился у нас, когда мне исполнилось девять лет, вскоре после того как умерли мои родители и меня на правах воспитанницы переправили из Норфолка в Лондон, в семью Томаса Мора. Он преподавал латинский и греческий в школе, основанной другом отца Джоном Колетом при соборе Святого Павла. Школа вызывала восторг отца, Эразма и их друзей — Линакра, Гроцина и других.
Но энтузиазм и эксперименты всех ученых друзей отца остались позади. Когда короновался новый король и улицы Лондона во время церемонии украсились золотом — верный признак того, что низостей, какие случались при старом короле Генрихе, больше не будет, — они почему-то решили, будто начинается новый Золотой век, где все будут говорить по-гречески, изучать астрономию, очищать церковь от средневековой мерзости, смеяться целыми днями и жить счастливо. Эразм как-то сказал мне, что письмо его покровителя лорда Маунтджоя, где тот призывал гуманиста немедленно ехать в Англию и прилагал пять фунтов на дорожные расходы, попахивает безумием счастья и надежды на нового короля Генриха. «Небеса смеются; земля радуется; кругом молочные реки и кисельные берега», — говорилось в нем.
Все молоко в вымышленных реках немедленно свернулось бы, знай они, как быстро все пойдет прахом. Знай они, что за десять лет их веселые насмешки над отталкивающими явлениями в церкви у нас на глазах выльются в смертельную схватку за религию. Что один из европейских учеников Эразма, брат Мартин из Виттенберга, зайдет в своих требованиях церковной реформы так далеко, что немецкие крестьяне начнут сжигать кирхи, отрекутся от папы и объявят войну всем духовным и светским правителям. Что отец после этого перестанет верить, будто порочную церковь можно реформировать, поступит на королевскую службу, разбогатеет и превратится в рьяного защитника католической веры от новых реформаторов-радикалов, которых он теперь называл еретиками, — перемена настолько впечатляющая, что мы не осмеливались не только обсуждать, но даже упоминать ее. Что Эразм, единственный из всех помнивший, как с восшествием на престол нового короля все надеялись на наступление более цивилизованной эпохи терпимости, уедет из нашего дома, вернется в Европу и оттуда напишет своему великому английскому другу по-стариковски озабоченное письмо, где словно бы в шутку назовет его «вполне придворным» и выразит свое недоумение дурной реальностью, в которую превратились его благородные мечты.
Но и тогда счастливые гуманисты не могли сидеть сложа руки и просто радоваться тому чуду, что еще живы в стране молочных рек и кисельных берегов. Ведь в ознаменование начала Золотого века нужно что-то делать. Так возникла школа при соборе Святого Павла. Потом, подсчитав, сколько детей он собрал в своем доме — четверо его собственных плюс сироты (я, Джайлз и Анна), — отец убедил Джона Колета дать ему школьного учителя и основал домашнюю гуманистическую академию.
Комнаты Джона Клемента располагались наверху старомодного каменного дома в Лондоне, где мы выросли. Дом со скрипучими деревянными полами и немыслимым количеством темных узких коридоров и укромных уголков напоминал корабль, и ему, естественно, дали нежное прозвище Старая Барка. Джон жил в другом конце коридора, рядом с Эразмом и Аммонием. По территории взрослых нам предписывалось во время игр ходить быстро и на цыпочках, чтобы не мешать им думать.
У Джона Клемента, крупного высокого и нежного великана, на длинном смуглом мрачном лице патриция выделялся орлиный нос. Если бы не всегдашний усталый добрый благородный взгляд, можно было подумать, что у его обладателя вечно плохое настроение. В бледно-синих глазах черноволосого Клемента отражалось небо. Ровесник отца был выше его ростом, с мощными плечами воина. Его физическая сила бросалась в глаза — ежедневно после обеда он вместо сна широкими нетерпеливыми шагами мерил Уолбрук или Баклерсбери. Латинские и греческие буквы наш учитель прикреплял на мишень в саду и заставлял нас стрелять в них из лука. Мы, как все городские дети, выросли в среде купцов, бюргеров и олдерменов, а у них лук и стрелы только пыль собирали на стенах. Их принуждал к этому закон; они даже не дотрагивались до мечей. Поэтому стрельба из лука стала нашей единственной попыткой овладеть аристократическим искусством ведения войны. Нам это нравилось. Госпожа Алиса недоуменно приподымала брови, взирая на методы Джона Клемента, но отец только смеялся.
— Пускай они попробуют все, жена, — говорил он. — Почему бы и нет?
Кроме атлетического сложения, тренированных мышц и быстрой реакции, в Джоне Клементе больше ничего военного не наблюдалось. Он обладал прирожденным, вызывавшим у нас уважение достоинством и терпением и всегда, словно любящий отец, выслушивал нас. Он не был похож на других взрослых — блистательных ораторов и мыслителей, собиравшихся за столом у отца, — потому что робел говорить о себе. Он много читал, учил у себя в комнате греческий, но был слишком скромен, чтобы делиться своими мыслями со взрослыми, и сохранял дистанцию по отношению к великим умам Европы, собранным отцом вокруг себя.
Совсем другое дело, когда мы оставались с ним наедине. Он так ловко жонглировал словами, что мы почти незаметно заучивали латинский и греческий, риторику и грамматику. Для нас это была увлекательная забава: словесные мелодии и контрапункты, когда все то и дело смеялись, а один — он — шутил.
Самые занимательные игры, в которых принимали участие и мы, Клемент придумывал на уроках истории. Прежде чем перейти к более высоким искусствам — музыке и астрономии, мы несколько лет изучали риторику и грамматику, делая первые латинские переводы и первые шаги в греческом. Он приукрашивал уличные басни о бесконечных войнах, превращая их в гимн безудержной храбрости, и самым младшим становилось так же интересно, как и нам с Маргаритой. На основе реальных событий нам полагалось придумать связный рассказ, во всех подробностях перевести его на латынь, а затем обратно на английский. Однажды — я была еще совсем маленькая, ужасная лакомка и мысленно любила гулять по саду и обирать поспевающую клубнику — я поддалась этому жадному желанию и в своем рассказе. Я написала, как злой король Ричард III перед какой-то очередной гнусностью говорит епископу Илийскому: «Что за чудесная клубника у вас в Холборнском саду. Повелеваю вам причастить нас ею».
Все смеялись. Отец зашел в классную комнату и помог нам записать эту сцену exertationis gratia — чтобы попрактиковаться. Он пообещал как-нибудь обязательно написать и издать историю Ричарда III, а в основу ее положить и наши игры, и игры Джона с мальчиками в школе при соборе Святого Павла. В тот день на детском обеденном столе стояло блюдо с клубникой.
Но слышали мы не только смех и ели не только клубнику. В Джоне Клементе всегда чувствовалось нечто печальное: ощущение утраты, мягкость, каких мне не хватало у бодрых, выдержанных Моров.
Как-то в дождливый четверг он зашел ко мне в комнату. Я плакала над маленькой шкатулкой, привезенной с собой из Норфолка. В ней лежали печатка моего родного отца — он носил ее на мизинце, толстой-претолстой сосиске — и молитвенник матери. Я никогда ее не видела, она умерла в день моего рождения, но мой отец говорил, что я очень на нее похожа — темноволосая, длинноногая и длинноносая, со смуглой кожей, серьезная, но с каким-то озорством в глазах. Я не очень хорошо помнила своего настоящего отца (кроме того официального факта, что он был рыцарем и оставил мне приличное приданое, позволявшее мне появиться на рынке невест и после его смерти надеяться на удочерение богатыми лондонцами). Но я помнила его тепло. Он был большим любителем пива, с красным лицом и копной темных волос. И в его объятиях, задыхаясь от нехватки воздуха, но млея от счастья, я знала — он никогда не даст меня в обиду. Он обнимал меня, и мы с такой нежностью и любовью говорили о той, кого потеряли, что наша тоска едва ли не воскрешала ее. В наших грезах она всегда стояла на коленях с молитвенником в руках. Иначе я не могла себе ее представить. Такой она была изображена в часовне. Невозможно описать, что бы со мной стало, если бы эта женщина — само совершенство — дотронулась до меня или заговорила со мной.
Любовь к матери связывала нас с отцом, поэтому для меня стало страшным ударом, когда его как-то утром принесли с охоты. Он сломал себе шею во время прыжка с лошади — глупая смерть. Никто меня не утешал: И в девять лет я резко повзрослела. Я сама надела на похороны траурное платье, бросила на гроб горсть земли, и для меня начались годы бесшумной жизни в коридорах: я бдительно подслушивала адвокатов и родственников, строивших планы на мою жизнь; как сорока, подбирала вещи родителей и обрывочные воспоминания, а потом меня отправили подслушивать в коридоры других людей. Моя мать давно знала Томаса Мора: она познакомилась с ним в Лондоне еще до замужества. С его стороны взять меня был каприз — правда, каприз добрый. Но он хотел, чтобы отныне я считала его своим отцом. Об этом, когда я появилась на Старой Барке, он попросил, глядя на меня добрыми глазами.
Конечно, тогда я не знала, насколько знаменит ум этого человека в Европе. Не догадывалась, что, находясь в его доме, тоже стану вращаться в интеллектуальном кругу избранных, где в каждой комнате по гению и кое с кем, если повезет, можно и перемолвиться. Или что из нас, девушек, — со временем я обзавелась новыми сестрами — будут готовить единственных в своем роде гениальных женщин христианского мира. В тот день я заметила только, что у незнакомца, которого мне предстояло называть отцом, мягкое, доброе, полное жизни и света смуглое лицо. Я сразу потянулась к нему, к его улыбке, ко всему существу. Рядом с ним каждый думал, что ему желают добра. И даже если незнакомец так и не вытеснил воспоминаний о моем настоящем отце, одного его присутствия было достаточно, чтобы сельский ребенок отчаянно силился выговорить «отец», всматриваясь в него с надеждой, по малолетству не в состоянии ее понять.

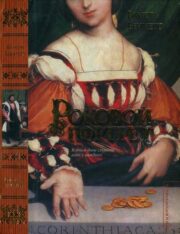
"Роковой портрет" отзывы
Отзывы читателей о книге "Роковой портрет". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Роковой портрет" друзьям в соцсетях.