И хотя очутился тут впервые, сразу признал Кампо Санта-Маргерита с ее облупленными красными скамьями. В открытых кафе туристы пили свою несчастную колу.
Антуан пристроился в тени, на краю одной из скамеек, и растворился в гомоне голосов. Сухонькие старички и старушки переговаривались между собой, он понимал отдельные слова, но не улавливал смысла фраз. Почему-то особенно часто мелькало словечко «вольта». Антуан смутно помнил, что «вольта» значит «раз» или «как-то раз» и обычно сочетается с прилагательным «прима» — «первый», точнее, «первая»: вольта по-итальянски женского рода. Но в устах пожилых венецианцев, повторяемое в проникнутой ровной бодростью беседе под сенью деревьев на Кампо Санта-Маргерита, оно, казалось, должно было означать что-то другое, связанное с веселой беззаботностью жизни, где на все дается не одна, а множество попыток, совершаемых под неумолчный аккомпанемент упругой речи. Эти сидящие в прогретой тени старики наверняка умели, отринув прошлое, окунуться в мгновенную свежесть этого «прима вольта». Их непрерывное щебетанье нагоняло на Антуана волны расслабляющей истомы. Чуть поодаль, около фонтана, стояла группа студентов, тут же устроилась компания бомжей. Антуан задержался надолго. К вечеру старички разошлись, а вместо них Кампо Санта-Маргерита заполнила довольно подозрительная публика. Между столиками на террасе ресторана расхаживал хозяин с забранными в хвост длинными седыми волосами, в черном жилете — загадочная личность полу-аристократического, полублатного вида. На площади, вполне патриархальной, тихой и, так сказать, пересохшей — близость воды здесь никак не ощущалась, — пахнуло чем-то затаенно угрожающим, какими-то темными махинациями. Сошло на нет размеренное оживление в угловом кафе, там и сям из неосвещенных углов доносились взрывы истерического смеха.
Антуан нехотя стряхнул с себя дремотное оцепенение. В дальнем конце площади он увидел магазинчик под названием Il Doge, предлагавший невероятный ассортимент мороженого самых разных сортов и цветов: от бледно-зеленого и неправдоподобно синего до красного и коричневого. Однако многие люди, даже не глядя на эту роскошную палитру, заходили внутрь, чтобы заказать что-то другое. Выходили они с прозрачным стаканчиком в руке, в котором колыхалась полужидкая масса и торчала трубочка. Лакомки шли осторожно, сосредоточенно, не спуская глаз со своей добычи. Антуан подошел к прилавку, прочел все этикетки. Но в последний момент передумал и неуклюже махнул рукой на вопрос продавца, что ему угодно. Он с большим усилием подавил желание заказать себе порцию кофейного льда.
В день приезда Антуан не думал о том, как все сложится дальше. Но уже на другое утро перед ним встал этот вопрос. За завтраком в столовой распоряжался долговязый смуглый парень, он принимал заказы и разносил чай и кофе на столики, за которыми довольно громко разговаривали по-французски — стоило ехать в Италию, чтобы чувствовать себя как в каком-нибудь Иссудене или Брессюире! Антуан искал в чертах молодого человека — вероятно, это был Франческо — сходство с Орнеллой Малезе. Волей-неволей он вспомнил об их встрече в Париже. Орнелла появится со дня на день. А Антуан все не решался сказать синьоре Малезе, что знаком с ее дочерью, — как-то было неудобно. И на этот раз снова отложил разговор на потом, а пока предпочел поскорее уйти.
Едва он переступил порог Ка’Редзонико, как в нем ожила старая неприязнь. Пышная вычурность этого горделиво возвышающегося на берегу Большого канала дворца — изукрашенные позолотой лестницы, знаменитая резная мебель работы Андреа Брустолона, громадные бальные залы — кричала о вкусах нувориша большого размаха, кичащегося этой роскошью, которая Антуану внушала холодное отвращение. В такую обстановку легко вписывались полотна Каналетто, а вот картины Лонги с их простотой и живостью выглядели совершенно неуместными. К счастью, во дворце был еще и второй ярус. Тут, между реконструированной старинной лавкой фармацевта и театром марионеток, «Новому Свету» Джандоменико Тьеполо было самое место. Несмотря на огромные размеры фрески — два метра в высоту и пять в ширину — в гигантском зале она казалась довольно скромной.
Антуан почувствовал прилив особой радости, которая захлестывала его всякий раз, когда он видел воочию какое-нибудь из своих любимых произведений искусства. Мягкие тона напоминали далекую одухотворенную Италию эпохи Пьеро делла Франческа. Но сюжет был невероятно современным и бесконечно странным. Художник приглашает посмотреть на что-то, чего нельзя увидеть. Это какое-то уличное зрелище. В толпе представлены все сословия: вот толстобрюхий буржуа в длинном парике, а вот Пьеро, сошедший с подмостков комедиа дель арте; согнувшиеся чуть не пополам дородные простолюдинки и кокетливо подбоченившаяся красотка в модной шляпе. Но самый загадочный персонаж — это человек, взобравшийся на табурет и держащий в руках длинную тонкую не то тростину, не то жердь, конец которой приходится на самый центр фрески. Что он делает? Явно не старается привлечь внимание зевак, уже на что-то уставившихся. Может быть, это деус-экс-махина, служащий посредником между художником и зрителем и указующий на нечто важное, но скрытое от наших глаз? И почему Джандоменико Тьеполо выбрал для изображения этого неведомого таинства стену семейного загородного дома? Ведь то, что он хотел выразить, оказывалось доступным лишь горстке друзей и домочадцев. В последние годы жизни, когда Джандоменико заканчивал эту фреску, он получал все менее значительные заказы во все менее крупных городах Италии. Как же он решился оставить свой шедевр, произведение, над которым работал почти полвека, на самой обыкновенной стене частного дома, который легко мог быть продан другому владельцу, какому-нибудь равнодушному к искусству толстосуму?
Антуан не отличался восторженностью. Но красота и оригинальность фрески, особенно вкупе с судьбой автора, чей талант так и не получил признания, потрясли его. Мимо один за другим проходили посетители, скользили пустым взглядом по стене, с любопытством осматривали театр марионеток и спускались обратно по монументальной лестнице. Первая монография, посвященная Джандоменико Тьеполо, была написана сравнительно недавно, в 1971 году, и ее постигла странная участь. Издательство, которое собиралось печатать книгу, переехало в Милан, и все материалы как в воду канули.
Говорят, что время проявляет таланты, расставляет все по местам, воздает всем по заслугам. Антуан никогда не верил в эту утешительную сказочку. На его взгляд, если не считать хрестоматийных случаев прославления не признанных при жизни гениев, а таких случаев от Вийона до Ван Гога наберется не так уж много, потомки всегда отдают предпочтение художникам, приближенным к сильным мира сего — имеющим деньги или власть.
Антуан вышел из КаʼРедзонико и уселся по-турецки на одной из пристаней Большого канала. Ему вспомнился другой загадочный сюжет: две женщины, обнаженная и одетая в черное. Россини. Его не затмевал знаменитый отец. И однако…
Солнце уже палило вовсю, и легкое марево размывало очертания дворцов. Все вокруг словно дышало морским воздухом. Антуан наблюдал за кипучей сумятицей на канале. Рядом с ним гондольер набирал пассажиров в трагетто — гондолу для переправы с берега на берег, не имеющую ничего общего с китчевыми туристическими гондолами. Трагетто — часть местного колорита, но вносит в него нотку почти аскетической строгости. Пассажиры запрыгивали в лодку и оставались стоять, у каждого в руках по портфелю-дипломату, один в шляпе. Буднично-безразличные, они не смотрели по сторонам, не обращали внимания на грандиозные дворцы и не удивлялись проворству гондольера, виртуозно лавирующего между рейсовыми катерши-вапоретти, водными такси и барками, груженными щебнем. Заторы, обходные маневры, звучные проклятия рикошетом отскакивали от поверхности воды. Видимо, у горожан вошло в привычку переправляться на другой берег, стоя в тесно набитой лодке, чтобы не идти пешком до Риальто или моста Академии. В том, как это суденышко перерезало канал, было что-то величественное, какое-то царственное презрение к беспорядочной толкучке вокруг. Правда, самый вопиющий беспорядок вносило именно оно, бесцеремонно вклиниваясь поперек движения. Но это было вторжение иной стихии, чуждой окружающей суете, и совершалось оно ради серьезного дела.
Пассажиры трагетто, без сомнения, знали, куда направляются: на занятия, совещание, деловое свидание. Их сосредоточенный вид был признаком осмысленного превосходства. Разве что звонок мобильника вдруг пробивал глухую броню на несколько секунд — ровно на столько, сколько требуется, чтобы вытащить телефон и нажать на кнопку: «Пронто?» Стоя в гондоле посреди Большого канала, они переговаривались с женами, коллегами, любовницами и снова прятали мобильник в карман или портфель. На лицах ни намека на улыбку, какая обычно держится хоть миг, после того как поздороваешься с кем-нибудь на улице. Антуан глядел на них со смешанным чувством зависти и восхищения. Их не мучили сомнения. Они двигались к намеченной цели неумолимо, как выпущенная из лука стрела. Наверно, так и надо жить в этом городе. Со вкусом, но без лишних эмоций. Вот молодая женщина в узкой юбке с неотразимой грацией выпорхнула из лодки, причалившей к пристани на противоположном берегу.
Удивляясь собственной податливости, Антуан замечал, как проникается другой жизнью. Запах свежевыстиранного белья на террасе в отеле. Болтовня старичков на Кампо Санта-Маргерита. Заученная отрешенность трагетто.
Какое-то неприятное чувство. Пройдет, просто я немного устала, — поначалу решила Орнелла. Но ничего не проходило, наоборот, день ото дня ей становилось все хуже. От Франции, первой страны, в которую она попала, у нее сохранилось самое радужное воспоминание. Светлый майский Париж. Радость самого настоящего литературного признания — такого у нее в Италии не было. Не последнюю роль в этой эйфории сыграла и картина Сандро Россини. Причем она сама не понимала, насколько эта роль велика. Но потом, после Мадрида и особенно после Барселоны, ей стало невмоготу. Это не имело отношения к нервным спазмам, которыми она когда-то страдала. И вообще к какому-либо физическому недомоганию. Может, все оттого, что везде повторялось одно и то же? Она рассчитывала увидеть новые места, новые города и страны. А ее каждый раз ждали одинаковые самолеты, поезда, отели. И одинаково организованное общение с людьми. Каждый раз она поступала в распоряжение очень уважительной, но и очень решительной особы — местной пресс-атташе. Время расписывалось буквально по минутам. Вопросы, которые задавали журналисты, тоже были везде одинаковые. Первым делом заходила речь о цифрах продажи «Кофейного льда». Иногда ей казалось, что она ответила на некоторые вопросы довольно удачно, и потом, для простоты и надежности, она почти невольно повторяла те же слова, с теми же интонациями и притворно задумываясь в тех же местах, как старый бродячий актер, давно затвердивший все трюки. Впечатление заезженности усиливалось оттого, что сказанное звучало еще и в переводе; каждый раз все словно разыгрывалось по одному и тому же сценарию.

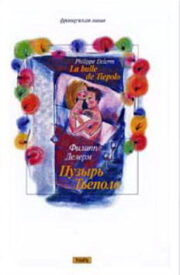
"Пузырь Тьеполо" отзывы
Отзывы читателей о книге "Пузырь Тьеполо". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Пузырь Тьеполо" друзьям в соцсетях.