Антуан подошел поближе. В цветовой гамме, пожалуй, чуть больше коричневых тонов, чем на фреске в Ка’Редзонико, но те же слегка размытые краски. Прибавились рыжеватые разводы на небе. Но сам пузырь? Может, ему только почудилось? Только что смысл сцены представлялся ему совершенно явным. Как иначе истолковать позу человека с палкой? Но ведь ни в Ка’Редзонико, ни в еще одном варианте «Нового Света», написанном маслом на холсте и выставленном в Парижском музее декоративных искусств, никакого пузыря нет и в помине. Эту третью работу Антуан хорошо знал: выполненная жирными и какими-то грязноватыми красками, она всегда производила на него тягостное впечатление — ничего общего с обаянием легкой фрески. В двух произведениях из трех пузырь отсутствовал. Ну а тут… Вблизи возникало какое-то странное чувство… Уже нельзя было точно сказать, что это именно пузырь. Скорее что-то вроде царапины или трещины на стене. Но почему она появилась только в этом месте и приняла очертания пузыря как раз на конце длинной палки?
Нет, стоило снова отступить на метр, и сомнения отпадали. Однако же их смутная тень оставалась, отчего открытие приобретало особую ценность. Уверенность в том, что видишь пузырь, была той же природы, что и сам пузырь, готовый лопнуть от прикосновения. Антуан вздохнул полной грудью. Его переполняло счастье. И дело было не в статье, которую он собирался написать для журнала. Хоть он, конечно, радовался тому, что сможет что-то сделать для признания Джандоменико, который долгое время оставался в забвении, а потом стал упоминаться только в связи со знаменитым отцом. Но не в этом суть. При всей разнице художников и эпох, венецианский опыт стал для него тем же, чем была работа над Вюйяром. Главное в ней не выяснить, что, где и когда написано и в каких отношениях художник состоял с прототипами персонажей, а разглядеть мельчайшие особенности его манеры, постоянные мотивы; у Вюйяра это может быть какой-нибудь жест — например, жест швеи, вдевающей нитку в игольное ушко, — или узор на ковре, или густая тень вокруг низко поставленной лампы, а у Тьеполо — полупризрачный пузырь на конце длинной трости. Выделить скрытые метафоры произведения, но не для того, чтобы все в нем объяснить, а для того, чтобы открыть пути различного прочтения, возможные созвучия тому, что волнует души зрителей, которых мы всегда видим только со спины.
Антуан обернулся и встретил вопрошающий взгляд Орнеллы.
Холст Россини стоял в комнате Орнеллы, прислоненный к стене у самой двери. В Париже, где она была не дома, это выглядело нормально. Но здесь, на Калле Роверето, подчеркивало нелегальное положение картины. Орнелле не хотелось нарываться на вопросы матери или Франческо. У нее уже выработался рефлекс при каждом звонке в дверь, прежде чем открывать, прятать картину на шкаф. Только и знай, что таись да остерегайся. Но уж очень ей хотелось постоянно иметь картину перед глазами, так чтобы можно было разглядывать ее лежа… Стоящая прямо на полу лампа с матовым бледно-оранжевым плафоном отбрасывала влево круг света, граница которого совпадала с линией плеча обнаженной женщины. Мягкий изгиб в золотистом ореоле. Правая половина тела была освещена ярче, с этой стороны находился загадочный альбом, который листала женщина в черном. Вид у обеих был задумчивый и удовлетворенный. Возможно, они разговаривали между собой, но без всякой натуги: захотят — перебросятся словечком. В непринужденной беседе можно и помолчать.
Устремив взор на картину, Орнелла и Антуан хотели бы влиться в эту тишину. Но в их молчании сквозила тягостная неловкость.
— Знаешь… — проговорила наконец Орнелла хрипловатым голосом. — Знаешь…
Они лежали в постели после не слишком пылкого секса. На обратном пути ни он, ни она не делали никаких попыток прикоснуться друг к другу. Напротив — оба явно чувствовали вновь возникшую дистанцию. После странного открытия на вилле Вальмарана что-то изменилось. Между ними или вокруг каждого из них теперь возник пузырь. Не поймешь, какой величины и насколько плотный. И вот в последний момент они сделали попытку осторожно и, главное, без слов ощупать его границы. Такая серьезность в любви не могла не разбудить призрак Мари. Орнелла почувствовала это еще раньше, чем Антуан. А он угадал причину еле уловимой сдержанности ее ласк. След перелома. И дальше они словно смотрели со стороны на любовную сцену, которую разыгрывали добросовестно, но не очень искусно и как-то по-дружески. Единственная польза от этого эксперимента заключалась в том, что теперь они с полным правом могли называть друг друга на «ты».
— Знаешь… Это странно, но я заранее знаю: все, что у нас с тобой сейчас было, исчезнет у меня из памяти, и так бывает каждый раз.
Антуан промычал что-то неопределенно-утвердительное, и она продолжила:
— Как будто идет борьба. Время уничтожает нас, но и мы уничтожаем его, когда отдаемся друг другу. Можно вспомнить все, только не это… Терпеть не могу романы, где обстоятельно описаны любовные сцены. В каждой книге главный герой — время, а время физической близости перестает существовать.
Антуан был не совсем уверен, что она права. В его душе шевелились какие-то неясные образы. Но он не стал вглядываться в них, а вместо этого сказал:
— В «Кофейном льде» тоже не существует времени.
Помолчав, Орнелла ответила:
— Правда. Я как-то не думала об этом… Впрочем, «Кофейный лед» и есть точно такое же любовное слияние с запахами, красками, воспоминаниями, тоской, ожиданием. Все это и есть сущность любви. А описывать словами, фотографировать или снимать на пленку какие-то позы и жесты — пустая затея.
Они замолчали, глядя на картину Россини и словно отражая ее сюжет. Однако это внешнее, фигуративное сходство скорее заставляло задуматься о том, как велика разница между двумя парами. Разве могли бы Антуан и Орнелла когда-нибудь чувствовать себя друг с другом так легко и свободно? Да и нужно ли им это? Они соприкоснулись, но только потому, что пересеклись их пути, ведущие к разным целям.
— Ты не успел посмотреть, упоминается ли среди знакомых Вюйяра наш Россини?
Антуан ответил с явной неохотой:
— Странно, что ты до сих пор сама не догадалась, почему твоего деда так безжалостно вычеркнули из семейной памяти.
— Ну… Я думаю, тут какая-нибудь скандальная история… Может, он бросил жену, у него была другая женщина… или даже не одна. Видишь ли, у нас в семье очень строгие нравы, — сказала она с улыбкой.
Антуан опять отозвался не сразу:
— Возможно, я не прав. Но, по-моему, тут совсем другое.
Маленькое открытое бистро у входа в парк Джардини. «Джардини», сады — так называется остановка вапоретто номер 1; после множества других, чьи славные названия напоминают о достопримечательных местах, входящих в обязательную программу туристического паломничества: Риальто, Ка’Редзонико, Академия, Сан-Марко, — здесь можно передохнуть, сойти просто так, для удовольствия. Дальше — Лидо, конечная остановка этого маршрута. Антуан сошел на «Джардини». Густая зелень деревьев и кустов, белесая солнечная пыль, старомодная терраса — он словно очутился где-то в захолустье и ждал, пока подойдет допотопный автобус и повезет его куда-то, трясясь по проселочной дороге. Но вместо дороги перед ним простиралась лагуна, и он ничего не ждал. За соседним столиком о чем-то увлеченно беседовали двое молодых людей. Присутствие Антуана ничуть их не смущало, его для них все равно что не было. Он мог забыться, раствориться, стать горечью эспрессо, надписью «Сегафредо» на чашке, пляшущими пятнами света на полу, пылом этого, не касавшегося его, разговора. В нескольких шагах, у фонтана, столпилась, прервав ненадолго игру в футбол, ребятня.
Джардини. Обычное слово стало именем собственным. Означающим, что можно ничего не делать, ничего не говорить, а просто глазеть, как кто-то рядом строит планы и играет в футбол. Вдали виднеются красноватые стены какого-то палаццо, легкий бриз гуляет по водной глади, треплет зеленые кроны. Джардини. Слово, стоящее в сторонке, особняком, вобравшее в себя тень и свежесть. Не нуждающееся ни в каком артикле. В нем можно оставаться, сколько пожелаешь. Вкус эспрессо, фирменная надпись, летний полдень, просеянный сквозь листья свет — все это оно. Сочной зеленью отливала даже липкая от пота кожа людей, в изнеможении сидящих на скамейках, расстегнув и распахнув на себе что только можно. Джардини.
Наконец он заставил себя встать и пойти дальше, к острову Сант-Элена. Квартал, где жила Орнелла, находился в черте Венеции, но тут уже было больше покоя и меньше суеты. Совсем далеко, за аллеями парка Римембранце, виднелись купола Салюте; город как будто оторвался и переместился на неприступный остров. Контуры его вырисовывались под кронами приморских сосен, вытянувшихся в почти идеальную горизонталь. Если пойти от берега вглубь, сосны вскоре сменятся липами, потом будет баскетбольная площадка, такая же унылая, как сами эти, не предназначенные для приятного времяпрепровождения, места: серый асфальт, ветхие щиты. Впрочем, на ней играли в футбол дети — видно, здешние жители все же старались оживить и подчинить своей прихоти унылое окружение. Маленькое кафе. Посетителей немного, и влекут их не достопримечательности, а мирный дух тихой окраины, забытая в наше время неспешность.
Оставаться на Калле Роверето на ночь Антуан больше не собирался. Таков был их с Орнеллой молчаливый уговор. Они переспали разок, получилось не слишком здорово, но избавило их от неловкости и перевело зарождавшуюся дружбу в другую плоскость; как будто оба с облегчением поняли: такой язык не подошел и теперь они вольны подобрать другой пузырь. Антуан остался в отеле «Феличе» еще на неделю.
Ему нравился старинный дом, на втором этаже которого поселилась Орнелла. На лестнице стоял прохладный сумрак. И какой-то трудноопределимый запах, сыроватый, но пронизанный атомами жизни, совсем как фильм Этторе Сколы «Семья», который Антуан так любил. Он позвонил четыре раза — условный знак, чтобы Орнелла не бросилась прятать картину. Картина Россини сплотила их, как общая тайна, мало-помалу обраставшая житейскими привычками. Орнелле показалось, что у Антуана загадочный вид. В самом деле, он не знал, как она отнесется к тому, что он откопал, и невольно старался оттянуть решительную минуту.

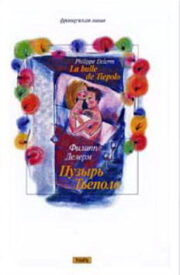
"Пузырь Тьеполо" отзывы
Отзывы читателей о книге "Пузырь Тьеполо". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Пузырь Тьеполо" друзьям в соцсетях.