В сумерках силы оставили его. Солнце свалилось за горы так неожиданно, что Ефим даже не успел осмотреться и прикинуть, где находится. До выворотня, где ночевали они с Берёзой, было, по его расчётам, ещё далеко, хотя огромный «котелок» на берегу чёрного озерца он уже миновал. Росомаха была рядом. Она давно не пряталась, поняв, что усталому путнику тяжело даже замахиваться на неё суком. «Сожрёт ночью, ведьма, – уже без страха, обречённо подумал Ефим, валясь на холодную землю. – Вот сейчас дождётся, пока закемарю, – и сразу же… Ох ты, угодники святые, как бы это не заснуть-то?» Он отчётливо понимал, что через минуту всё равно провалится в сон. Слишком мучительным был день, слишком болело плечо, слишком тяжёлой, словно налитой свинцом, была голова. В полном отчаянии Ефим дёрнул за повязку, опять успевшую присохнуть к ране, – и от резкой боли чуть не потерял сознание. Рассчитал он, впрочем, правильно: сон как сбросило. Но кровь хлынула горячим ручьём, и Ефим понял, что сделал очередную глупость: от запаха свежей крови росомаха совсем осатанеет.
«Ну и что… Зато не сплю! Прикинуться, что ли, что задрых, пусть поближе подойдёт… А там уж будь что будет! Или она, или я!» Мысль была совершенно безумной. Но Ефим ясно понимал: ещё одной бессонной ночи, ещё одного дня с крадущейся зубастой тварью за спиной он не выдержит.
Над лесом взошла луна – круглая, жёлтая, страшная. Блёклый свет залил стволы деревьев, облизал холодными языками дальние камни. Вокруг было тихо – ни шороха, ни движения. Ефим лежал неподвижно, весь подобравшись в напряжённый комок, изо всех сил вслушиваясь в ночную тишину. И всё равно не заметил, когда росомаха кинулась на него. Прямо в лицо беззвучно метнулась мохнатая тень. Блеснули оскаленные зубы – и тут же жёсткие челюсти сомкнулись на его руке, которая непроизвольно вскинулась к лицу. Рукав плотного суконного армяка росомаха прокусила как бумажный, и он тут же наполнился горячей влагой. От боли почернело в глазах. Ефим, яростно зарычав, отшвырнул зверя здоровой рукой. Но хищница была сильна. Она рвала его зубами и когтями, бешено ворча и визжа. В какой-то миг Ефиму показалось, что – всё… Ругаясь самыми страшными словами, которых постыдился бы даже в компании каторжан, он чудом вывернулся из-под смрадного тяжёлого тела. Ударил, стиснул руки на горле дёргающейся твари, чувствуя, что ещё мгновение – и лишится сознания… Но росомаха, в последний раз деранув его когтями, вдруг обвисла. Тяжело дыша, Ефим отбросил неподвижное тело. С трудом поднялся на колени. Подполз, преодолевая дрожь, к мохнатому кому, убедился: сдохла, паскуда… И лишь тогда повалился навзничь в мокрую траву, понимая гаснущим сознанием, что – нельзя… Кровища идёт, хотя бы перевязаться чем-то надо, другого зверья полон лес… И сразу же не то заснул, не то сомлел под холодной, ехидно кривящейся луной.
Два дня спустя, уже в сумерках, Ефим Силин подошёл к воротам винного завода. Его шатало от голода и страшной усталости. Рубахи на нём давно уже не было, лохмотья армяка были натянуты прямо на голое тело. Ножевая рана под ключицей слегка поджила, но глубокие царапины на груди, оставленные росомахой, сильно воспалились. Они сочились сукровицей и гноем, прилипая к ткани одежды, и Ефим прикладывал к ним сорванные листья чёрной берёзы. Он не знал, помогают ли они при ранах, но здраво рассудил, что коли берёзовыми вениками парятся в банях, то и для царапин от них вреда не будет. Пользы, впрочем, тоже не вышло никакой. Ещё больше мучил укус страшных росомашьих зубов. Толстый рукав армяка значительно смягчил его, но зубы хищницы всё равно разорвали руку до кости, и рана воспалилась сразу же. На другой день рука побагровела и вспухла так, что не помещалась в рукав, и Ефим без всякого сожаления оторвал его. Проходя мимо ручьёв или болот, он совал руку в холодную воду, и это немного помогало. Ефим страшно боялся, что у него теперь отнимется рука. Он поневоле старался идти быстрей: там, на заводе, Устька, она посмотрит, поможет… Может, и не простит его теперь ни в жизнь, но руке-то отвалиться наверняка не даст. Он шёл и шёл, следя, чтобы солнце било в спину. Отмечал свои приметы. Иногда жевал мучнистые луковицы саранок. Кое-как боролся с дурнотой и жаром, которые крепчали к ночи. Молился о том, чтоб не встретилась ещё одна росомаха или, ещё хуже, волки. И от тех и от других бог миловал. Но, выбравшись на берег широкого ручья, Ефим нос к носу столкнулся с облезлым и худым медведем, ловившим на камнях рыбу. Увидев опешившего путника, который не знал, то ли бежать, то ли лучше, наоборот, не шевелиться, медведь сердито рявкнул. Бросил выловленную рыбину с отъеденной головой и, мотая облинялыми боками, убежал в чащу. Ефим вытер холодный пот со лба, перебрался по камням на другой берег, начал было доедать за медведем рыбу – но его тут же стошнило. Отплевавшись, парень выбросил остатки рыбы в ручей и, проклиная всё зверьё на свете, тронулся дальше.
Ещё больше хищников он боялся бурятов, которыми стращал его Берёза. Ни оружия, чтобы отбиться, ни сил, чтобы убежать, у Ефима не было. Но тут ему несказанно повезло: за шесть дней пути в лесу ему не встретилось ни одного человека. Он старался быть осторожным. Если до слуха доносился незнакомый треск или шум, останавливался и пережидал, забившись под разлапистую ель или в щель между валунами. Ночью спал вполглаза – с ноющими и саднящими ранами это было довольно просто. Вслушивался в лесные шорохи. Сжимал здоровой рукой свой сук. А наутро вставал, превозмогая боль и тошноту, и шёл дальше.
Когда впереди замаячили облитые закатом знакомые ворота из толстых тёсаных кольев, Ефим даже не обрадовался. Последние вёрсты он шёл не останавливаясь, отчаянно не желая проводить в лесу лишнюю ночь. Ворота были уже заперты. Подойдя, Ефим уткнулся лбом прямо в занозистые колья и какое-то время стоял неподвижно, ещё не веря: дошагал, добрался, не сожрали по пути… Затем бухнул кулаком в ворота. Ещё раз и ещё.
– Да отопрёте вы иль нет?! Не достучишься… Околевать тут из-за вас?
– Кто там долбит на ночь глядя? – сипло спросили из-за ворот. – Чего надо-то?
– Да ваш я, Ефим Силин! Открывай, нагулялся я…
– Тьфу, холера… Ефим?! Впрямь ты? Счас, пожди… Игна-а-тьич! Поди сюда, отворяй! Тут вон какое явленье!
За воротами – возня, шум, удивлённые возгласы. Ефим терпеливо ждал, прислонившись плечом к толстому столбу. Про себя усмехался: с каторги как птица улетал, никто не держал, а обратно и не попадёшь… Наконец скрипучая створка калитки качнулась, поехала в сторону.
– Мат-терь божья! – испуганно сказал старый солдат-инвалид, пропуская Ефима внутрь. – Да тебя узнать нельзя! Где шлялся-то, обормот?
Ефим не ответил.
– И куды тебя теперь? В лазарет аль прямо к начальству? Трофимова-то где потерял?
– Давай к начальству, ежели не спит, – угрюмо буркнул Ефим. – Объявиться мне надо. Да пусти прежде умыться – не то барин меня не признает. Скажет ещё – не его завода беглый, пусть идёт себе с богом… И ни драть, ни кормить не станет! А у меня уж брюхо с хребтом срослось!
– Шутит ещё! – поразился Игнатьич. Но всё же пропустил Ефима к кадке с водой и подождал, пока тот вдоволь напьётся и слегка ототрёт физиономию.
Фыркнув напоследок, Ефим выпрямился и ухмыльнулся:
– Ну вот… Теперь и под батоги можно укладываться! Пошли, инвалидная рота, не отставай.
У Брагина ещё не ложились. В кабинете начальника горела знакомая всему заводу зелёная лампа. У входа, поджав под себя ноги, сидел неизменный Хасбулат и наглаживал своё ружьё. При виде Ефима с конвоиром он легко вскочил на ноги.
– Хасбулат, скажи Афанасий Егорычу – Ефимка Силин пришёл, набегамшись. Куды девать распорядятся?
– Жды, – черкес исчез. Через минуту дверь открылась снова.
– Заходы.
Брагин сидел за столом перед стопкой бумаг. Когда Ефим вошёл и молча поклонился, начальник завода взглянул на него без особого удивления и, казалось, неприязненно:
– Явился, смотри ты… Спасибо, Авдонин, ступай.
– Слушаю, ваше благородие, – дверь закрылась.
Некоторое время начальник завода и беглый каторжанин смотрели друг на друга. Затем Брагин пригласил:
– Ну, садись, зелёные ноги.
Ефим молча уселся на пол у стены.
– Тебя рысь, что ли, порвала?
– Росомаха.
– Знатно, нечего сказать… Голодный? Эй, Хасбулат! Принеси ему щей… И хлеба, коли Захаровна отжалеет.
При слове «щи» у Ефима так повело голову, что он, не выдержав, закрыл глаза и прислонился затылком к тёплой бревенчатой стене. «Всё… Помру сейчас… Не дождусь… Господи, пожрать по-людски!!! А потом пущай хоть дерут, хоть вешают…»
Дождался. И ел, сидя на полу, тёплые, густые солёные щи с мясом, стараясь глотать поаккуратней. Не спеша откусывал от горбушки и едва удерживался от зверского желания вылить в рот всю миску разом. Но щи всё равно кончились мгновенно, и бесстрастный Хасбулат тут же забрал миску. Ефим проводил её тоскливым взглядом.
– Позже дам ещё, но не сразу, – пообещал Брагин. – А пока потерпи, иначе живот перекрутит. Сколько дней у тебя там саранки аукаются?
– Десятый, барин, – хрипло, не открывая глаз, сказал Ефим. – Благодарствую.
– А рассчитали-то они весьма точно, – произнёс Брагин непонятную фразу. Затем негромко сказал что-то черкесу, и тот исчез.
– Сейчас придёт доктор Иверзнев, посмотрит твои ранения. Угораздило тебя, однако…
Ефим тут же открыл глаза. Тревожно посмотрел на Брагина.
– К чему доктора-то волновать посредь ночи, барин? Пущай Устька моя придёт…
– Устинья нездорова, – коротко сказал, не поднимая взгляда от своих бумаг, начальник, и у Ефима дёрнулось сердце.
– Воля ваша, барин… Не может того быть, – сглотнув вставший в горле ком, выговорил он. – Сроду она не болела… С чего это?
Брагин не ответил, а Ефим не решился спросить снова. И ждал, сидя на полу, с закрытыми глазами, пока не скрипнула дверь и знакомый голос не спросил:
– Вы меня приглашали, Афанасий Егорович? Ваш черкес велел взять саквояж. Что тут стряслось?

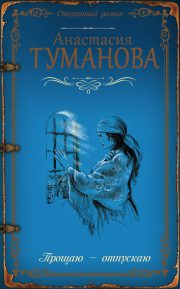
Не возможно оторваться. Читается очень легко. Книга захватывает полностью, порой теряешь связь с реальностью, с головой окунаешься в жизнь героев! Хочется читать и читать????