– Спасибо, Афанасий Егорьич.
– Благодарить ты должен не меня, – с досадой отозвался Брагин. Подойдя вплотную к Ефиму, ещё раз осмотрел парня с ног до головы, поморщился. Коснулся ладонью его лба.
– Да ты горишь, как печка. Что тебе тут доктор велел выпить? Давай, хлопни одним духом! И поди ложись. Если будет худо, буди Хасбулата.
– Не беспокойтесь. Мне бы лечь только…
Падая на пол в тёмных сенях (черкес, сердито ворча, едва успел подсунуть ему подушку), Ефим успел подумать только о том, что нипочём теперь не заснёт. И – провалился мгновенно, как умер.
Наутро Ефима Силина нашли в сенях без сознания, в страшном жару, и Хасбулат на себе отволок его в лазарет. Два дня Ефим прометался в горячке, вспоминая то Устинью, то атамана Берёзу, то мать, то Антипа, страшными словами ругал росомаху, искал выворотень на болоте под горелой сосной… На третий день жар упал, и Ефим заснул – весь в поту, бледный до синевы, осунувшийся, но спокойный.
Он очнулся утром четвёртого дня от рассветного луча, упавшего на лицо. Осторожно приподнял голову. Огляделся, ещё не понимая, где находится. Вокруг – бревенчатые стены, нары, серые казённые одеяла, храпящие горки под ними. В открытое окно сквозь решётку лезли лапы можжевельника в молодых зелёных «хвостиках». Рядом белела печь – вся исчерканная какими-то чёрными узорами. Ефим присмотрелся – и с удивлением увидел, что это буквы и слова, криво написанные углём. «Баба… воду… несла… Корова сено ест… Устинья – игоша болотная…» За печью что-то чуть слышно копошилось.
«Больничка… – подумал Ефим, блаженно поворачиваясь на жёсткой подушке и закрывая глаза. Осторожно шевельнул плечом. Оно тут же отозвалось болью – но это была уже не та раскалённая стрела, что пронизывала всё тело насквозь. – Подживает, зараза… Опять всё, как на кобеле, заросло…»
Тихо скрипнула дверь. Вошла с ведром воды высокая баба в белом платке. Она аккуратно поставила ведро у печи, повернулась. На Ефима с чудовищно исхудалого лица взглянули серые глаза – и он вздрогнул, оттого что не сразу узнал жену.
– Устя… – шёпотом позвал он.
Она кивнула. Оглядевшись по сторонам, подошла на цыпочках и села на край нар у него в изголовье. Протянула было руку – и не коснулась.
– Устька… Ну, что ты?.. – испугался Ефим. – Устька… Ну… Вот он я…
Она не ответила. Заплакала – тихо, зажав ладонью рот, низко опустив голову. Ни звука не было слышно в спящем лазарете, только плечи Устиньи тряслись всё сильней. Ефим молчал, не зная, куда деться от этих всхлипов, каждый из которых словно кусок кожи сдирал с сердца.
– Устька, не вой…
– За… мол… чи, не… христь… Лю… ди… спят…
– Что ж ты не говорила мне ничего? Кабы я знал, что ты брюхатая была… Пошто молчала-то, дура? Я бы шагу с завода не…
– А что… тебе… говорить… Всё едино… совести… нет… Что было говорить, когда ты как раз… с той Жанеткой… Много чести было – за собственным мужем бегать… Ну, вспомни, вспомни, как я к тебе в острог пришла! Как потаскуха распоследняя… Пятак караульному совала, чтоб допустил! А ты что? А ты, идолище, что?!
– Устька, спал, ей-богу… – зажмурившись, пробормотал Ефим. – Вот тебе крест святой – спал…
– Божится ещё, аспид! – всплеснула руками Устинья. – Под крестом – врёт! Христа-то побойся, и не стыдно тебе?!
Ефиму было так стыдно, что до смерти хотелось ухнуться сквозь щелястый пол вместе с нарами. Хоть в подвал, хоть в преисподнюю – куда угодно от этих Устькиных слёз… Но нары стояли крепко, и деваться было некуда. Неловко повернувшись, Ефим уткнулся в горячую, мокрую руку жены.
– Устька, не реви… Спасу нет слушать…
– Ох, замолчи… Людей побудишь… Ну вот что мне с тобой делать, ирод, скажи – что?!
– Да что хочешь делай… Возьми вон, вдарь чем-нибудь потяжельше…
– Да куда тебя ещё бить-то?! И так живого места нет! Барина благодари, что кнута не огрёб! Аль мало драли тебя… Ой!!! – Устинья вдруг задохнулась от возмущения. – Да что ж это ты делаешь, сила нечистая?! Вздумал ишь чего! Что же ты, бессовестный, творишь, люди же кругом! Кыш немедля!
Какое там… Лохматая, грязная голова мужа уже лежала на её коленях. Устинья растерянно осмотрелась. Вокруг все по-прежнему спали мёртвым сном.
– У-у-устька… Ну вот провалиться мне, не буду больше… Ей-богу, не буду… Прости, Христа ради… Я тебе что – не муж, что ли?
– Батюшки, – вспомнил наконец! Снизошло ему откровенье небесное! Хуже дитяти малого… Не будет он… Да будешь ведь!!! – снова взвилась Устинья, не замечая того, что уже гладит мужа по голове и он блаженно замирает под её рукой. – Ещё как будешь! Ещё сколько будешь! До гробовой доски мне продыху не дашь, ирод! Потому все люди как люди, а у меня – кромешник с большака… Ой, Ефим, господи, Ефим, тоска моя… – всхлипнув, она умолкла. И не говорила больше ни слова. Вокруг царила сонная тишина. За окном бестолково орал петух, пылинки плясали в полосе света, а по полу скакали солнечные зайцы. Сквозь слёзы глядя на их пляску, Устинья шёпотом сказала:
– Будет уж, леший… Ну, всё, всё, Ефим, пусти… Идти мне надо.
– Усть, не могу я так, – он упрямо не поднимал головы с колен жены и не давал ей встать. – Ну, хоть за ухо-то выдери… по старой памяти. Помнишь, как на этапе-то?..
– Эко чего вспомнил! – усмехнулась она сквозь слёзы. – Мы и венчаны тогда ещё не были! А сейчас куда ж – мужа-то?..
– Так не видит же никто! Ну, Устька! Ну, нешто жалко?
– Вот ведь припекло ему… Ну, коль так – получай тогда, варнак, за всё сразу! – Устинья решительно взяла его за ухо.
Ефим закрыл глаза в ожидании заслуженной трёпки… Но жена вдруг охнула и неловко встала, отстраняя его. Сообразив, что нелёгкая принесла какое-то начальство, Ефим приподнялся на локте… И увидел вылезающую на четвереньках из-за печки цыганку Катьку.
– Во! Очуялся всё-таки, чёртушка наш! – весело сказала она, поднимаясь на ноги. – И нечего, Ефимка, меня глазюками палить! Щепу собирала, вот и всё… Устька, ну говорила ж я тебе, что такие просто так не дохнут! Да твоё сокровище ни в ад, ни в рай не примут! Жить-то спокойно и Господу, и сатане небось хочется!
– Катька, окажи милость, закрой рот, – сердечно попросил Ефим.
Цыганка скорчила ему рожу и так же сердечно обратилась к Усте:
– Устьинья, уважила бы мужика да врезала б ему – коль сам просил! Глядишь, и польза будет!
– Своему врежь, – ворчливо отозвалась Устя, вытирая лицо фартуком. – Тоже, поди, есть за что!
– Ой, и не то слово, милая, не то слово… Жаль, нельзя у нас, закон не велит, – притворно огорчилась цыганка. – А тебе-то можно! Да ещё с мужнина полного дозволенья! Вон, и полено хорошее у печки дожидается…
– Сейчас я его сам возьму, – задумчиво пообещал, глядя в потолок, Ефим. – Уж по морде чьей-то чёрной не промахнусь небось…
Цыганка расхохоталась. Устинья испуганно замахала на Катьку руками, поднесла палец к губам, оглядывая нары. Но подруга вдруг улыбнулась во весь рот и громко скомандовала:
– Эй, мужики! Хватит прикидываться, подымайтесь! Четвёртый десяток на свете живу, а такого храпа отродясь не слыхала!
С нар немедленно одна за другой начали подниматься лохматые головы. На растерянную Устинью со всех сторон уставились улыбающиеся рожи.
– Ну, и слава богу! – объявил Петька Кочерга, почёсывая затылок. – А то уж и впрямь осипли храпеть! Ты, Ефимка, вот что… В другой раз надумаешь с завода тикать – уходи навовсе, а не просто погулять. Потому – нечестно это! Об обчестве думать надо!
– Вам-то какое дело, дьяволы? – мрачно спросил Ефим.
– Как «какое»?! – возмутился Кочерга. – Мы с робятами уж и жеребьёвку кидали, кому на Усте Даниловне жениться! Нешто даром доброй бабе пропадать?
– Господи, и не совестно тебе?.. – простонала Устинья.
– …так ведь нет, назад тебя черти принесли, незадача экая! – гнул своё Петька. – Могла бы та росомаха и догрызть тебя! Видать, невкусным показался…
– Ты ей в другой раз приплати, – посоветовал Ефим. И тут же забыл про всё на свете, потому что Устинья снова расплакалась, бессильно прислонившись к стене.
Антип пришёл в лазарет неделю спустя. Ефим давно был на ногах и вовсю просился на работу: «Осточертели уже стены эти! Чего валяться попусту?» Однако Иверзнев и слушать ничего не хотел:
– Рано тебе ещё, болван! Что толку будет, если откроются раны и ты опять загремишь сюда? Заняться нечем? Вон, печь побели! Устинье уже места нет для записей!
– Скажите, какой дьячок выискался… Пишет она… – пробурчал Ефим, но послушался. Развёл в ведре известь с белой глиной, нашёл мочало, намотал на палку. Старая побелка в одном месте пошла трещинами. Ефим решил, что сначала хорошо бы её отбить. За этим занятием и застал его солдат-караульный.
– Силин! Годи печку колотить, там до тебя брат пришёл!
– Антип?.. – Ефим выпрямился. Медленно смахнул с волос известковую пыль. – Ну, добро. Выйду сейчас.
– Только ты смотри у меня! – обеспокоенно предупредил солдат. – Коли метелить друг дружку вздумаете, так я враз начальство кликну! Потому не положено!
– С чего метелить-то? – усмехнулся Ефим. – Не боись. Не будет ничего.
Солдат посмотрел недоверчиво, но промолчал. Ефим вытер руки о мочало и вышел из лазарета.
Антип сидел у стены на сваленных брёвнах, что-то вертел в руках. Когда брат подошёл и сел рядом, он не поднял головы. Ефим присмотрелся. В пальцах Антипа был забавный козёл, сплетённый из липового лыка, – с высунутым языком и рожками на лбу.
– Для кого мастачишь?
– Да так… Дитям брошу в бабьем остроге. Рады будут.
– Угу… Где был-то до сих пор?
– Глину ходил смотрел с мастером новым. При тебе ж ещё он прибыл. Наш, русский. Инженер Лазарев, Василь Петрович.
– И что, смыслит в деле-то? – солидно спросил Ефим.
– На мой погляд, понимающий человек. Мы с ним неделю по округе шастали, глины смотрели. Старая-то, Василь Петрович говорит, стощилась, держит вовсе худо. Только вчера и воротились. Насилу нашли нужное-то аж за Судинкой. Мне мужики первым делом про тебя рассказали. Что ж… Живой, и слава богу.

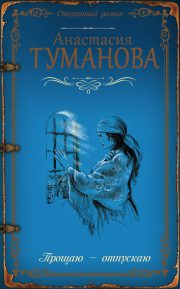
Не возможно оторваться. Читается очень легко. Книга захватывает полностью, порой теряешь связь с реальностью, с головой окунаешься в жизнь героев! Хочется читать и читать????