Я слушаю рассказ отца, вот, хотел было сказать, что слушаю, как сказку. Но нет, сказки рассказывает моя старая няня, тетушка Зухра, и в сказках — все выдумка, я знаю! А то, что рассказывает отец, оно взаправду было. Мой отец очень умный и знающий. Он улем — ученый, толкующий Коран. Отец, может быть, самый умный улем, поэтому у него есть титул — мевляна. Но другие улемы, они небогаты, а мой отец — богат, он — приближенный султана.
— Эллинов победили ромеи, — продолжает отец, — и дали их богам свои имена. Потом пришли другие воинственные народы и разрушили государство ромеев, а оно было велико и обширно. Тогда наследниками ромеев сделались византийцы. А теперь эта земля принадлежит нам. Потому что мы завоевали ее силой оружия. Мы — ее хозяева и наследники. Теперь нам принадлежит ее прошлое и мы создадим ее будущее!
Здесь прерывается мое воспоминание. Разумеется, я уже не помню, как мы вернулись домой. Но помню, что в моем детском воображении вместе с духами-джиннами и прекрасными пери из сказок тетушки Зухры поселились языческие боги эллинов. Иногда мне даже снился огромный Зан, играющий со своим орлом, высоко-высоко, на вершине горы Олимп!
Итак, отец считал меня одним из тех, кому предстояло создать будущее этой земли. Но будущее было для меня неясным и туманным. Куда яснее было прошлое, ведь оно воплощалось так вещно, так живо. Статуи обнаженных юношей и улыбающихся девушек протягивали руки мне навстречу. За много столетий эти бедные руки были отбиты. Но юноши и девушки улыбались по-прежнему и приветливо тянулись обрубками былых стройных рук навстречу тем, кого видели перед собой. Земледельцы здесь выпахивали прямо из земли расписные черепки и целые сосуды, красно-черные, разрисованные затейливыми узорами, и с этих сосудов улыбались все те же прелестные люди — красные контуры на черном, черные — на красном. А статуи были тоже раскрашены, и на место зрачков вставлены черные камешки.
Странно было то, что для тех жителей здешних мест, что поселились здесь до нас, все это оставалось таким же чуждым, отдаленным, каким могло показаться самому простому османскому воину.
Я вспоминаю гору Олимп, как я шел к ее подножью. Близился день свадьбы моей дочери. Дом и двор наполнились людьми. Начались визиты с поздравлениями. Дочь, юная, счастливая, украшенная драгоценностями, в алых шальварах из тяжелого шелка, принимала подруг и родственниц. По обычаю юный жених не должен был бывать у нас. Но он все кружил верхом, поодаль от дома. И каждый день приезжал отец жениха с богатыми подарками. А предстояла еще и сама свадьба. Музыканты, трапеза, гости. Я решил проехаться за город, подальше. Я чувствовал себя немного утомленным. Спешился и ведя в поводу коня, двинулся к подножью горы. И вдруг услышал топот копыт. Меня догоняли. Я обернулся… Да, в тот день, в день той странной находки я вновь вспомнил то, о чем старался не вспоминать.
Но я помню и другой Олимп — Олимп моего детства. Вот я ступаю на тропку, цепляюсь за ребристые камни, карабкаюсь. А впереди меня легко, словно горный молодой козел, несется вверх мой старший брат Хасан. Он оборачивается и его юное лицо смеется.
— Чамил! Чами! — окликает он меня.
Я люблю его, хочу подражать ему и потому усердно карабкаюсь по склону, забыв о страхе.
Хасан был старше меня лет на пятнадцать. Он был сыном первой, старшей жены моего отца. Звали ее Пашша, она очень хорошо вышивала и учила этому мою мать. Мне нравилось иногда заглядывать в ее комнату, она всегда угощала меня сушеными фруктами, изюмом.
Помню Хасана двадцатипятилетним. Он подавал большие надежды. Отец собирался сделать его улемом — ученым толкователем Корана, меня же мечтал видеть прославленным воином. И все вышло наоборот. Я тянулся к ученым книгам, а брат был увлечен воинским искусством.
По характеру Хасан резко отличался от отца. Насколько отец славился своим спокойствием, уравновешенностью, умением примирять спорщиков, настолько Хасан отличался взбалмошностью, когда ему хотелось высказать свои мысли, ничто не могло остановить его.
— Зачем ты это сказал? — порою спрашивал отец своего старшего сына. — Да, это тонкая и остроумная мысль, но зачем было высказывать ее вслух? Ведь все равно никто не поймет тебя. Более того, тот человек, которому ты доверил свою мысль, глуп и перетолкует твои слова тебе же во вред! Неужели так трудно сначала подумать, а после — говорить!
Брат и не думал оправдываться, искренне соглашался с отцом и снова поступал по-своему.
То было время, когда войска наши приблизились к землям сербов. По указанию султана воздвигли крепость. И вот однажды несколько сербских воинов подскакали к нашей крепости, хмельными голосами они выкрикивали угрозы, стреляли из луков в ворота. Когда из крепости показался наш разъезд, сербы обратились в бегство. Но как ни горячили они своих коней, наши всадники нагнали наглецов. В стычке погибло несколько наших. В то время полководец Хаджи Мехмед лежал больной, крепость поступила под начало моего брата Хасана. Он приказал углубиться в сербские земли. Разве мы не получили права на это? Поход прошел очень и очень успешно. Важен был этот поход еще и тем, что все чувствовали — сербские земли рано или поздно войдут в пределы нашей державы, так что брат мой сыграл роль, то что называется, первой ласточки. Но несмотря на такие обстоятельства, всех, конечно, поразило прибытие самого султана.
Выделяясь белым пышным тюрбаном с кисточкой, украшенной жемчугом, чуть скашивая иронически черные зрачки продолговатых больших глаз, ехал султан впереди свиты. Конь под ним белый, седло и сбруя нарядные. У султана мясистые сильные губы, алеющие в чаще черной бороды, и орлиный нос. Таким видел мой брат султана Орхана.
Добрались до небольшой церкви. Строение оказалось темным, приземистым. Султан сошел с коня. Пожелал войти вовнутрь. Сделал знак группе особо доверенных лиц следовать за ним. Брат отъехал немного в сторону от остальной свиты. И вдруг Орхан вскинул руку, приглашая его следовать за собой. Хасан спрыгнул со своего коня и также вошел в церковь.
Внутри в церкви обреталось все, что и должно обретаться в христианских храмах. В сущности, самое интересное во всех этих церквах, конечно, разрисованные стены. Эти изображения не похожи на изображения, сделанные эллинами. Церковные росписи как-то скованны, грустны, нет в них безоглядной эллинской радости.
Эта церковь также была разрисована. Все это я знаю по рассказам брата, и знаю, что особенно ему понравились изображения хрупких светловолосых девушек в белых одеяниях.
Заложив руки за спину, султан оглядывал пестрые стены. Люди из свиты поглядывали на моего Хасана, ведь султан отличил его. А султан Орхан между тем вскинул руку и громко заговорил.
— Отныне все это канет в небытие! — он повел рукой. — Здесь, на этих землях, родятся новые люди и новые стены! — Затем он немного повернул голову и, не обращаясь ни к кому в отдельности, коротко бросил:
— Поджигай!
Все поспешно покинули строение. Подскакал воин с факелом и поджег церковь.
И тут (некстати, как и всегда) овладело моим братом бесовское желание высказать вслух свои мысли. Решено — сделано! Но говорить интересно, когда кто-то тебя слушает (или хотя бы делает вид, будто слушает!). Если признаться откровенно, моему брату было все равно, кто его слушает и слушает ли вообще. Лишь бы рядом находился какой-то человек. Если уж на моего Хасана найдет, человек этот немедленно, сам того не желая, сделается его доверенным.
На сей раз судьба, должно быть, решила сыграть с моим старшим братом злую шутку, потому что рядом с ним оказался не кто иной, как Мукбил Челеби, первый придворный сплетник, доносчик, интриган. Вот с этим-то Мукбилом Челеби Хасан и заговорил, будто с самым ближайшим другом.
— Какая нелепость, — начал Хасан, — воображать, будто что бы то ни было может кануть в небытие!
Мукбил ответил взглядом, полным интереса и сопереживания. Разговор велся, разумеется, вполголоса, чтобы не услышали. Но говорить с Мукбилом Челеби, пусть даже и вполголоса, все равно, что орать на всю базарную площадь, — все все будут знать!
— И эта торжествующая напыщенность! Если уж воину захотелось поджечь, разве нельзя это сделать молча и решительно? Иначе я невольно вспоминаю историю одной продажной гречанки по имени Таис. Александр Македонский взял ее с собой в поход, и она приказала поджечь великолепный дворец; кажется, она сочла прекрасных каменных быков — стражей ворот и дверей — символом деспотизма! — брат улыбнулся насмешливо.
Мукбил Челеби сделал большие глаза.
— И возможно ли создать, выстроить, родить нечто совершенно новое? Подобное мнение — такая же мнимость, как и пресловутое убеждение в том, что существует некое окончательное небытие!
Мукбил Челеби внимательно выслушал как рассуждения о небытии, так и о возможности или невозможности рождения чего-то совершенно нового. В результате мой старший брат Хасан подвергся опале. Султан Орхан при виде его делал тоскливую и досадливую физиономию. Я полагаю, что султан Орхан вовсе не был настолько глуп или легковерен, чтобы всерьез принимать наветы Мукбила Челеби! Просто султан понял, что брат мой при всей своей храбрости человек ненадежный, эгоистичный и не знающий удержу. Ведь Хасан даже не задумался о том, кому он поверяет свои мысли, не думал о последствиях своей откровенности, спеша удовлетворить свою страсть к оригинальным монологам. Разумеется, мой отец по-прежнему пользовался уважением при султанском дворе. Он повел себя умно, но, увы, у него не хватило силы воли показать всем, будто он отвернулся от родного сына. Результатом было то, что отцу предложили назначение в Айдос, на крупную административную должность. Отцу удалось уговорить Хасана, который оставался не у дел, поехать со всеми нами.
Сначала мне не очень хотелось покидать Брусу. Это был мой город у подножья моей горы! Но после я заметил, что мать даже рада предстоящему отъезду. В Айдосе жил ее отец, там остались ее сестры, мать радовалась возможности повидать своих родных. Она принялась рассказывать мне о том, что я увижу прекрасный пролив Босфор, и мне захотелось увидеть его. Я уже не так жалел о том, что покидаю мой Анадол, мой Олимп, мою Брусу. Но судьбе угодно было, чтобы, прощаясь с миром моего детства, я все же заплакал.

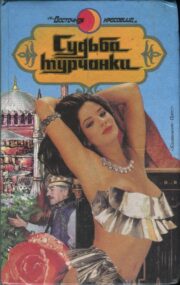
"Призрак музыканта" отзывы
Отзывы читателей о книге "Призрак музыканта". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Призрак музыканта" друзьям в соцсетях.