Призрак музыканта
От переводчика
Сабахатдин-Бора Этергюн (1881–1946) родился в Истанбуле, в семье, принадлежавшей к потомственной воинской аристократии. Образование получил в Германии. Свой литературный путь начал как прозаик-реалист сборником рассказов «Слепые дети». Через некоторое время вышла книга его эссе «Прошлое и будущее турецкой словесности» (1911). Затем последовали романы «Безумная любовь к Ламартину», «Времена Османа-гази» и другие. Известность писателю принес роман «Врач-армянин», посвященный событиям 1915-го года на Балканском полуострове. Роман был переведен на французский, английский и немецкий языки. Вскоре Этергюн снова уезжает в Германию. Здесь были написаны романы «Мадемуазель Аиссе», «Призрак музыканта» (1936), «Двуглавый воин», а также многочисленные эссе и статьи. В конце тридцатых годов Этергюн сближается с Тибетским обществом. По неизвестной причине был выслан из Германии в 1943 году. Умер в Анкаре. В произведениях Этергюна перед нами предстают своеобразие, трагизм и величие одной из самых выдающихся в мировой истории держав — Османской империи. Время действия романа «Призрак музыканта» — XIV век.
Пролог
Время! Оно бушует на площадях, буйствует на полях сражений, безумствует в золоченом великолепии дворцовых залов; оно шумит в толчее богатых базаров; торжественный голос времени отчетливым эхом отдается в стенах мечетей. Время!
Разумеется, мы ничего не знаем о времени. Вот оно обернулось всадником и выехало из дворцовых ворот. Всадник в кафтане, шитом золотым узором; с темно-красным тюрбаном на голове; всадник на базарной площади — это прежде всего человек своего времени. Его лицо — не его лицо, его глаза — не его глаза; лицо, глаза, одежда — все это принадлежит не ему, но времени. И люди вокруг него — люди времени — купцы, мелкие торговцы, женщины под покрывалами, ремесленники. Но вот всадник сворачивает на одну из этих узких улочек; пузатые деревянные балконы нависают над мостовой, вымощенной булыжниками, сглаженными копытами многих коней и обутыми ступнями многих прохожих. Тишина. Жара. Одиночество. Голос времени смолк. Всадник перестает быть человеком времени, всадник — это уже не время; всадник — человек. Для самого себя — он единственное воплощение себя самого, он — единственный и неповторимый, существующий вне всех времен и пространств. Он не мыслит себя воином, всадником, но — человеком.
Улочка поднимается вверх. Копыта с легким гулом ударяются о мостовую. Тишина. Жара. Одиночество.
Запертые ворота дома украшены широким медным кольцом. Всадник наклоняется с коня и ударяет кольцом о ворота. Властно и мерно. Ворота распахиваются, привратник почтительно сгибает спину. Всадник въехал во двор, даже не взглянув на того, кто отпер ему ворота. Спешившись, всадник бросил поводья подоспевшему конюху.
— Господин…
— Да… Нет… Приготовь… Не нужно!.. Ступай!
Спустя час наш всадник уже сменил тюрбан на небольшую полукруглую шапочку, из-под распахнувшегося халата виднеется белая сорочка с треугольным вырезом, открывающим сильную смуглую шею — кожа чуть загрубела. Он сидит перед маленьким круглым столиком, скрестив ноги в плотных темных шароварах на кожаной подушке, и бросает в рот горсти вареного прожареного риса, потом длинными сильными пальцами разрывает жареного цыпленка. Он ест сосредоточенно, как человек, поглощенный какими-то путанными и даже немного пугающими его самого мыслями, но мыслями привычными.
Сегодня у него нет никаких спешных дел, и вообще никаких дел нет. Он сам чувствует, как эта бездеятельность, осененная летней жарой, порождает в нем дурные мысли; нет, не порождает, ибо мысли эти существуют уже давно; не порождает, но развивает, взращивает, словно заботливый садовник. Вот сознание уже свыклось с этими дурными мыслями, они окрепли и расцвели, они перестали казаться дурными и воспринимаются теперь как нечто вполне естественное. Человек закладывает руки за спину, ходит по комнате, чуть приволакивая сухощавые ступни в мягких туфлях без задников. Человек приближается к окну, выходящему во двор. Во дворе — утоптанная копытами серая земля, во дворе тишина и жара. В глубине широкого двора — конюшни, дальше — темнолистные заросли папоротниковых кустов, за ними — еще строения. Человек смотрит в окно. Взгляд его минует конюшни и лиственные заросли; для того чтобы с каким-то безнадежным упорством останавливаться вновь и вновь на тех дальних строениях, замкнуто белеющих в глубине двора.
Человек думает о том, что если он сейчас подойдет к двери, раскроет ее, минует прихожую и выйдет во двор, это ничего не будет значить, ничего не изменит.
Человек медленно идет к двери. Уже обычным шагом проходит через прихожую. Наконец останавливается во дворе. Стоит некоторое время. Тишина и горячее солнце, казалось, поглотили его сознание. Он недвижим, он весь сосредоточился на своих ощущениях. Он чувствует, как тяжелеют пальцы опущенных рук; чувствует, как невольно сжимаются веки, чтобы солнечный жар не слепил глаза. Ему кажется, что он стоит так долго-долго. В глубине души он понимает, сознает, что это всего лишь отсрочка; что он все равно сейчас пойдет дальше.
И он идет по двору. Снова шаги его медленны. Он тянет время. Проходя мимо конюшен, он чутко прислушивается. Звуки привычны и обыденны — лошади жуют, хрупают. Конюхов не слышно. Подумав о конюхах, он с отвращением принимается думать о слугах вообще, об их низменном любопытстве, о сплетнях, пыльными струйками крутящихся вокруг его дома. Эти мысли прерываются, когда он вдруг понимает, что перед ним — папоротниковые заросли. Привычное зрелище темно-зеленых листьев теперь воспринимается как что-то не совсем заурядное, даже странное. Он протягивает ладонь и ощущает какую-то терпкую шершавость — это пальцы коснулись поверхности листа. Какое-то время человек занят этими кустами. Темная вытянутость веток занимает его, мелкие бороздки покрыли каждую веточку змеиной сетью, человек различает каких-то маленьких светлокрылых насекомых, а вот муравьи тянутся по стволу. Но и это всего лишь оттяжка, отсрочка. Он знает, знает, что пойдет дальше.
И он идет дальше. Делает шаг за шагом. И еще один шаг. И еще.
Близятся дальние строения.
Стены маленькой, почти квадратной комнаты побелены. Ярко выбелена и пустая ниша в одной из стен. Маленькое узкое оконце помещается под самым потолком; должно быть, обычно оно пропускает не так уж много света, но сегодня день такой солнечный, что в комнате совсем светло. Снаружи замерло высокое солнце, продлился полдень. В одном из углов квадратной комнаты брошен на светлые, гладко выструганные доски пестрый тюфяк. Узкая подушка смята как-то по-детски. Тонкое желтое шерстяное одеяло сиротливо скомкано. Дверь крепко заперта. В комнате удушливо несет мочой, потому что в другом углу приткнулся сосуд для известных надобностей.
По этой комнате, наискосок, из угла в угол движется немолодая уже женщина. Она ходит как-то странно, шаркает босыми ногами, не отрывает ступни от пола; руки, согнутые в локтях, она держит как-то скованно перед грудью, выставив вперед сжатые кулаки. Во рту у нее видно, что не хватает нескольких зубов, от этого губы западают. Женщина худа, но кожа лица еще гладкая, а волосы, выбившиеся из-под косынки, хотя и посекшиеся, посеребреные, но хранят остатки некие былой пышности. Косынка связана удлиненными кончиками на затылке, и свободное — до щиколоток — платье и косынка — из одной и той же материи — пестрой — в цветочек, истончившейся после многократной стирки, но это дорогая ткань, называется она — «басма» и тотчас после выделки бывает плотной, даже немного жесткой. Из этой же ткани сшиты и шальвары женщины, окаймленные у щиколоток тонкими тесемчатыми полосками.
Женщина смотрит прямо перед собой, лицо у нее сальное, ногти на руках и ногах длинные и нечистые.
Внезапно женщина останавливается, неловко, словно механическая игрушка из тех, что изготовляют в немецком городе Нюренберге — кукла-автомат. Немного постояла. Затем той же походкой двинулась к тюфяку, села, вытянув ноги. Из-под подушки женщина вынимает обрывок тонкой бечевки, накручивает на пальцы и принимается медленно двигать пальцами, сплетая разные сочетания. Это древняя игра девочек, особенно приятная в пути, когда катится через степь крытая повозка и словно бы в такт ее движению мерно сплетаются веревочные узоры, ловко движутся детские пальцы… Но теперь у женщины это плохо получается.
Женщина снова прячет бечевку под подушку. Она сидит на тюфяке, покачиваясь взад и вперед, глядя прямо перед собой, не издавая ни звука. Тишина. Жара. Одиночество.
Человек подошел к запертой двери. Ему еще кажется, что он сможет повернуться и уйти, если захочет, пожелает. Но вместе с тем он твердо знает, что сейчас вынет ключ из-за пояса и отопрет дверь. Он видит себя отпирающим эту дверь, но в то же время еще сознает, что пока у него есть возможность выбора. Он еще может уйти! Если захочет, если захочет!.. Он вынул ключ. Ключ небольшой, немного заржавленный. Возможность выбора все еще остается. Он медлит, время замирает. Он пристально рассматривает ключ. Грубоватые изгибы и закругления металлической вещицы. Затем сознание словно бы отключается. Блудливо зажав рот его способности мыслить, его пальцы уже поворачивают ключ в замочной скважине.
Женщина слышит, как поворачивается ключ. Скрип. Но она не обращает внимания.
Он уже знает, что дверь открыта, он ее открыл. Можно войти. Но очнувшееся сознание вцепляется в его руку из последних сил. Он стоит перед дверью, осталось лишь слегка толкнуть ее. Последнее движение он ощущает, как некий решительный свой поступок. Он распахивает дверь. Ну вот, все совсем не так уж страшно, даже обыденно, ведь не в первый раз!
Она сидит на тюфяке, вытянув ноги, и смотрит на него равнодушно. В сознании его мелькает оправдательная мысль — а, может быть, и она привыкла, да, конечно, привыкла, и все это стало обыденным, обычным, только вот надо таиться от слуг, потому что все они сплетники, да!..

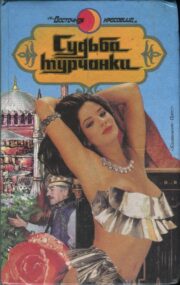
"Призрак музыканта" отзывы
Отзывы читателей о книге "Призрак музыканта". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Призрак музыканта" друзьям в соцсетях.